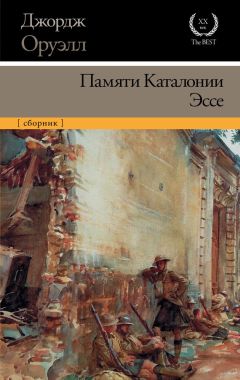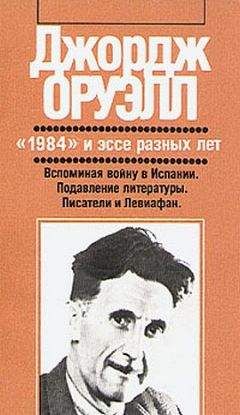Но Хаусмен не оказался бы столь глубоко созвучен мироощущению тех, кто был молод в 1920 году, если бы не еще одно свойство его поэзии – неожиданным образом она предстает кощунственной, антиномийной и не лишенной цинизма. Традиционный антагонизм поколений особенно обострился в конце мировой войны, – отчасти из-за самой войны, отчасти под косвенным воздействием русской революции интеллектуальные баталии сделались напряженными. Благодаря спокойствию и надежности, присущим английской жизни, всерьез не потревоженной даже войной, многие из тех, чье мировоззрение сформировалось в 80-х годах предыдущего века, а то и раньше, сохранили его в неприкосновенности до 20-х годов нашего столетия. В сознании же молодого поколения официальные догмы рушились, как замки на песке. Религиозность, например, убывала на глазах. За несколько лет трения между молодыми и старшими переросли в нескрываемую ненависть. Остатки прошедшего войну поколения, выжившие в бойне, обнаружили, что старшие продолжают верить в лозунги 1914 года, а младших, совсем юнцов, удушают учителя-холостяки, изъеденные пороком. Именно их и захватил Хаусмен, в чьих стихах им виделся сексуальный бунт и личные счеты с Богом. Да, в этих стихах был патриотизм, но безвредный, старомодный, цвета мундиров королевской гвардии, а не стальных касок, на мотив «Боже, храни королеву», а не «Кайзера на виселицу». Они были в должной степени антихристианскими – Хаусмен воспевал некое озлобленное, дерзкое язычество, убежденный в том, что жизнь коротка и боги не на нашей стороне, а это полностью отвечало преобладающему настроению молодежи; к тому же восхитительная хрупкость строк, состоящих почти из одних односложных слов…
Я говорю о Хаусмене так, будто он был заурядным пропагандистом, слагавшим сентенции и строки для последующего цитирования. Конечно, в нем было не только это. Не станем недооценивать его теперь только потому, что его переоценивали несколько лет назад. Пусть сегодня это вызовет возражения, но кое-каким стихам Хаусмена («Вползает в сердце гибель» или «Пашет ли упряжка») не суждено долго пребывать в забвении. Но, в сущности, приязнь или неприязнь к автору всегда зависит от направленности его творчества, от его «цели», от выраженного им «смысла». Лучшее свидетельство этому – насколько трудно обнаружить литературные достоинства в книге, которая всерьез покушается на ваши убеждения. Да ни одна книга и не бывает вполне нейтральной. Та или иная тенденция всегда различима, будь то в поэзии или в прозе, пусть даже она исчерпывается выбором формы и образности. С поэтами же, добившимися, подобно Хаусмену, широкой популярности, дело обстоит проще простого – ведь они, как правило, отчетливо афористичны.
После войны, после Хаусмена и «певцов Природы», возникла группа писателей совершенно иного направления – Джойс, Элиот, Паунд, Лоуренс, Уиндем Льюис, Олдос Хаксли, Литтон Стречи. В середине и в конце 20-х годов они составили «движение» в той же степени, в какой группа Одена – Спендера является «движением» в последние годы. Правда, не все одаренные писатели этого периода могут быть отнесены к одной и той же категории. Скажем, Э. М. Форстер, написавший свою лучшую книгу в 1923 году или около того, принадлежал довоенной эпохе, ни один из периодов творчества Йейтса также не отмечен характерной печатью 20-х годов. Такие жившие в ту пору писатели, как Мур, Конрад, Беннетт, Уэллс, Норман Дуглас, сказали все, что могли, еще до того, как разразилась война. Кроме того, к этой группе следовало бы отнести и Сомерсета Моэма, хотя в строго литературном смысле он ей не принадлежит. Конечно, даты тут приблизительны; большинство этих писателей публиковали книги и до войны, но к послевоенным их можно причислить с не меньшим основанием, чем к послекризисным – более молодых авторов, пишущих сегодня. Читая литературную прессу того времени, вполне можно было не заметить того обстоятельства, что названные авторы составляют «движение». Более чем когда-либо, тогдашние критики, блиставшие в ту пору на ниве литературных обзоров, изо всех сил делали вид, будто предыдущее поколение еще не сказало последнего слова. Сквайр правил «Лондон меркьюри», в платных библиотеках нарасхват шли Гиббс и Уолпол, царил культ жизнерадостности и мужественности, пива и крикета, трубок из вереска и моногамии, а заработать гинею-другую статейкой, высмеивающей «высоколобых», можно было всегда. Но молодежь покорили именно презренные «высоколобые». Ветер, зародившийся на просторах Европы и долетевший до Англии, задолго до 1930 года сорвал покровы с этой школы крикета и пивной, оставив ей для прикрытия одни дворянские титулы.
Но первое, что обращает на себя внимание, если присмотреться к группе писателей, которых я назвал, – это то, что они вовсе не походят на группу. Более того, некоторые из них решительно отвергли бы утверждения о своем родстве с другими. Лоуренс и Элиот питали друг к другу антипатию, Хаксли боготворил Лоуренса, но Джойса отвергал, остальные в большинстве своем поглядывали свысока на Хаксли, Стречи и Моэма, а Льюис нападал на всех поочередно, и его писательская репутация во многом определена этими нападками. И все же между ними существует органическое сходство, представляющееся теперь достаточно ясным, хотя лет десять назад его можно было не заметить. Они объединены пессимистическим мировоззрением. Следует только уточнить, что имеется в виду под «пессимизмом».
Если лейтмотивом поэзии георгианцев была красота Природы, после войны лейтмотивом стало трагическое жизнеощущение. Стихотворения Хаусмена, например, отнюдь не трагичны, в них только сетования гедониста, испытывающего разочарование. Так же обстоит дело и с Харди, за исключением его «Династов». Группа же Джойса – Элиота появилась позже, и ее главным противником был уже не пуританизм; с самого начала они «постигали суть» всего того, что их предшественники еще только пытались утвердить как норму. Все они с безоговорочной враждебностью относились к понятию «прогресс», будучи убежденными в том, что прогресса не только нет, но и быть не должно. Сходясь в этом, названные мной писатели, конечно, отличаются друг от друга и по существу взглядов, и по значительности таланта. Пессимизм Элиота – это отчасти христианский пессимизм, подразумевающий известного рода безразличие к людским горестям, а отчасти питаемый горечью при виде упадка западной цивилизации («Мы полые люди, мы чучела, а не люди» и т. д.) – в своем роде чувство, возникающее в эпоху, когда настали сумерки богов, и оно-то позволило ему в «Суини-борце» совершить почти невозможное, представив современную жизнь еще хуже, чем она есть. У Стречи это просто благопристойный пессимизм XVIII века, наложившийся на пристрастия к разоблачениям. У Моэма – стоическое отречение, твердость высокомерного европейца-сахиба, который где-нибудь восточнее Суэца исполняет – в подражание кому-нибудь из Антониев – свой долг, сам не веря, что это необходимо. Лоуренс на первый взгляд не кажется пессимистом, ибо он, подобно Диккенсу, человек настроения и не устает повторять, что современная жизнь выглядела бы нормальной, если только взглянуть на нее немного не так, как принято. Но он требует отказа от нашей механической цивилизации, а этого никогда не произойдет. И вот, разочаровавшись в настоящем, он принимается идеализировать прошлое, а именно безопасно мифический бронзовый век. Когда Лоуренс предпочитает нам этрусков (своих этрусков), с ним трудно не согласиться, однако в конечном счете это вид пораженчества, поскольку мир движется совершенно в ином направлении. Жизнь, которую он вечно восхваляет, жизнь, сосредоточенная вокруг простых таинств – любви, земли, огня, воды, крови, – всего лишь проигранное дело. И поэтому у него осталось только желание, чтобы все происходило так, как происходить определенно не будет. «Волна великодушия или волна смерти», – заклинает он, но по нашу сторону горизонта волн великодушия явно не наблюдается. И Лоуренс бежит в Мексику, где умирает в возрасте сорока пяти лет – несколькими годами раньше, чем поднялась волна смерти. Я снова толкую об этих людях так, будто они не художники, а заурядные пропагандисты, все подчиняющие своей «проповеди». Скажу еще раз: на самом деле они куда значительнее. Было бы абсурдом, к примеру, сводить «Улисса» только к изображению ужасов современной жизни, «грязной эры “Дейли мейл”», по выражению Паунда. Ведь Джойс в гораздо большей степени «чистый художник», чем большинство писателей. Но «Улисса» не мог бы написать человек, лишь смакующий слова и их сочетания. Это выражение особого взгляда на жизнь, взгляда католика, утратившего веру. Джойс словно восклицает: «Вот вам жизнь без Бога. Только посмотрите, как она ужасна!» – и все его технические нововведения, как бы важны они ни были, служат прежде всего этой цели.