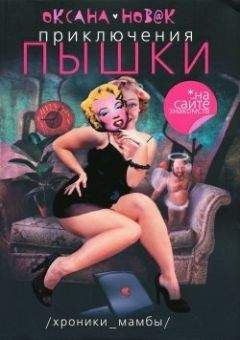– Типа того. Я здесь, чтобы помогать при ситуациях, не угрожающих жизни, таких как эта. Почему бы вам не пойти со мной?
Она сошла с лыж и встала на мои крепления, чтобы я смогла выбраться из своих. Мы подобрали лыжи, и я побрела вслед за ней по снегу.
Кое-как добрались до деревянной будочки десять на десять футов, стоявшей в стороне от подъемника. Там обнаружились две длинные скамьи, складной стул и полки, нагруженные предметами первой помощи, бутылками с водой, немытыми кофейными чашками, рациями; было тепло от керосинного обогревателя. И были два мутных окошка, сквозь которые виднелись заснеженные сосны. Женщина налила в миниатюрную бумажную чашечку воды, но лицо так заледенело, что я не могла шевелить губами – и обливалась водой, как старуха под анестезией в кабинете стоматолога.
Она забрала стаканчик.
– Давайте вначале снимем с вас перчатки, – проговорила она и мягко стянула их. Положила на стул возле обогревателя и сняла свои.
– Мои – толстые и теплые, – сказала спасительница. – Можете побыть в них, пока не согреетесь. Я скоро вернусь, на этом участке сегодня работает лишь пара человек.
И вышла наружу без перчаток, сунув голые руки в карманы.
Спустя какое-то время я легла, растянувшись, на одну из скамеек и закрыла глаза. От запаха керосина продолжала волнами накатывать тошнота. Я промерзла до костей. В воздухе чувствовался ледяной аромат сосен, который просачивался сквозь стены. Иногда благодать – это полоска прозрачного горного воздуха, проникающего сквозь щели.
В воздухе чувствовался ледяной аромат сосен, который просачивался сквозь стены. Иногда благодать – это полоска прозрачного горного воздуха, проникающего сквозь щели.
Между волнами тошноты я практиковала концентрацию – так же, как делала во время родов: смакуя ледяные кубики и яблочный сок в паузах между схватками. За много миль от дома, в глубоком одиночестве, в вонючей сторожке ощутила я знакомое чувство отделенности: от себя, от бога, от счастливых красивых людей за стенами.
Я думала о женщине из лыжного патруля с ее маленькими карими глазками. Она была похожа на тюленей-монахов, которые выплывают на берег на Гавайях, чтобы отдохнуть на песке. Взрослые тюлени достигают шести-семи футов в длину, и все они похожи на Чарлза Лаутона. Туристы-новички на пляже думают, что они умирают и их нужно спасать, но любой, кто провел там хотя бы сутки, знает, что они выплывают, чтобы отдохнуть. Чистильщики бассейнов из прибрежных курортов приезжают с желтой сигнальной лентой и шоссейными буйками, чтобы огородить места их отдыха. Когда я впервые наткнулась на тюленя, лежавшего на песке, показалось, что он пытается вступить со мной в визуальный контакт: я была его последней и единственной надеждой на спасение. Вокруг глаз налип песок, он был весь в шрамах от акульих зубов. Рори, мой тогдашний бойфренд, который каждый год занимается на Гавайях серфингом, рассмеялся и объяснил, что с тюленями все в полном порядке: отдохнув, они вразвалку ковыляют обратно в океан.
Так и я ощущаю мир, когда меня не слишком заносит: вещи таковы, каковыми им надлежит быть, несмотря на любые свидетельства обратного. Жизнь плывет, тащится по песку, отдыхает; тащится, плывет, отдыхает.
Так и я ощущаю мир, когда меня не слишком заносит: вещи таковы, каковыми им надлежит быть, несмотря на любые свидетельства обратного. Жизнь плывет, тащится по песку, отдыхает; тащится, плывет, отдыхает.
Обездвиженная, я лежала на скамье. Будь я тюленем-монахом, могла бы подтащить себя в сидячее положение, соскользнуть и, подтягиваясь на ластах, вернуться в океан. Как-то раз Рори видел мать-тюлениху, которая учила детеныша отдыхать, на некоторое время выплывая на песок, прежде чем соскользнуть обратно в волны. Они вдвоем тренировались снова и снова, а потом исчезли в воде. Воспоминание об этом вызвало ужасную тоску по Сэму. Я чувствовала себя выброшенной, и до зарезу нужно было, чтобы время шло быстрее. Я бы не возражала против жизненных схваток, если бы они просто наступали, когда я к этому готова, чтобы можно было снова прийти в себя и вспомнить – что я, собственно, делаю в родах. Иногда человеческое бытие вгоняет в такое уныние! Бо́льшую часть времени оно едва мне по силам…
Иногда человеческое бытие вгоняет в такое уныние! Бо́льшую часть времени оно едва мне по силам.
Я прижалась носом к трещине в стене, чтобы чувствовать запах сосен. Больше не могла ждать, когда вернется женщина-патрульная. Она была моим единственным настоящим другом, а я – такой развалиной. Ее голос был мягким и добрым. «О, если бы вы ныне послушали гласа Его, – писал псалмопевец, – не ожесточили бы сердца вашего». Ладно, хорошо, сказала я Богу – и заметила, что перестала быть замороженной развалиной, какой была раньше. Это уже кое-что! Даже могла бы сесть, но хотелось, чтобы патрульная увидела все масштабы моего страдания – если только она когда-нибудь вернется.
Я думала о людях, которых знала по церкви и по некоторым политическим кругам. Они выполняли своего рода психологическое патрулирование мира, помогая тем, кто в беде, выслушивая и предлагая погреться в своих теплых перчатках.
Спустя двадцать минут спасительница вернулась, потирая друг о друга голые ладони.
– Как у вас дела? – спросила она. Поначалу ее энтузиазм встревожил: было ощущение, что сейчас мы перейдем к занятиям гимнастикой. Потом она поняла, что я в порядке и отдохнула. На душе было мирно: она была моим личным чистильщиком бассейна, моей матерью-тюленихой. Я села и вдохнула свежий воздух из распахнутой двери.
Женщина подала мне чашечку воды, и я быстро осушила ее. Затем подошла к обогревателю и проверила мои перчатки.
– Они полностью высохли, можете их надеть и вернуть мои.
Я встала и вновь чувствовала себя собой, прежней: скриплю помаленьку, но в порядке.
– Я бы на вашем месте спустилась на подъемнике, – предложила она, – если не очень хочется прокатиться на лыжах.
Но мне очень хотелось: ведь один раз я великолепно справилась. Она всячески суетилась вокруг, словно я побывала под лавиной. Я натянула перчатки и вышла наружу, на белый океан льда. Снова нацепила лыжи и направилась к склону. Скользила, падала, снова вставала – и неспешно катилась вниз по горе.
Постучаться в дверь небес
Итак, я – в самолете, возвращаюсь домой из Сент-Луиса. Или скорее вот она я: в аэропорту Сент-Луиса, с вполне разумным расчетом на то, что вскоре мы будем в воздухе, поскольку рейс уже задерживается на два часа. Хотелось побыстрее домой, потому что я не видела Сэма несколько дней, но, учитывая сложившиеся обстоятельства, я полагала, что держусь неплохо – при том, что я скептик и ужасно боюсь летать. За поглощением шоколадок и чтением никчемных журналов провела я эти два часа, пытаясь быть полезной мающимся пассажирам: раздала все журналы и бо́льшую часть шоколадок, принесла воды пожилому мужчине, заигрывала с младенцами, общалась. Не так давно в церкви я была свидетельницей некоторого чуда – и с тех пор чувствовала, что мне полагается идти по жизни с большей верой и глубокой убежденностью в том, что если я буду заботиться о чадах божиих, Он позаботится обо мне. Итак, я надеялась, что как только мы окажемся на борту, все пойдет как по маслу.
Мое представление о том, что в самолете должно идти как по маслу, заключается в следующем: (а) я не погибаю в катастрофе, запечатленной ускоренной съемкой, и меня не закалывают насмерть ножом террористы; (б) никто из пассажиров не пытается заговорить со мной. Все разговоры должны закончиться в тот момент, когда колеса шасси оторвутся от земли.
Наконец нам разрешили подняться на борт. Я сидела в 38-м ряду, между женщиной чуть старше и мужчиной моего возраста, который читал книгу об Апокалипсисе, написанную знаменитым романистом, принадлежащим к правому крылу христианства. В одной газете меня попросили дать рецензию на эту книгу, когда она вышла в свет, потому что я и автор – христиане. Однако, как я указала в интервью, он из правых христиан, которые считают, что Иисус возвращается в следующий вторник сразу после обеда, а я – из левых, которые полагают, что этот писатель попросту одухотворяет собственную истерию.
– Ну, и как вам? – поинтересовалась я, весело указывая на книгу, стараясь быть дружелюбной и в то же время «прощупать» политические взгляды соседа.
– Одна из лучших книг, которые когда-либо попадались, – ответил он. – Вам тоже следовало бы прочесть ее.
Я кивнула. Помнится, в том интервью я сказала, что книга – хардкорная правая параноидальная антисемитская гомофобная женоненавистническая пропаганда, если не слишком деликатничать. Мужчина улыбнулся и вновь погрузился в чтение.
Не могу догадаться, из какой страны была сидящая рядом женщина, хотя, судя по акценту, один из ее родителей мог был латышом, другая – кореянкой (или наоборот). Ее речь напоминала возгласы марсиан из фильма «Марс атакует!»: «ак, ак, ак!» Впрочем, я забегаю вперед.