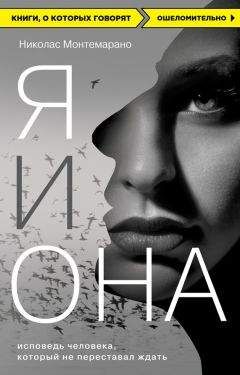Джей останавливается перемолвиться парой слов с мужчиной, чье лицо похоже на дубленую кожу, продающим старые журналы «Лайф» и букинистические книги. Глория рассматривает коробки с записями «Битлз». Мужчина выносит Джею восемь длинных досок. Они разговаривают короткими фразами, как это свойственно некоторым мужчинам. Жена отлично, дети отлично, дом отлично, бизнес так себе, не благодари меня за деревяшки – а потом мы уходим, неся по четыре доски каждый, и я гадаю, не пропустил ли я какой-то знак, какой-то намек о том, зачем я здесь, что мне положено сказать или сделать дальше.
На парковке загружаем доски в грузовик. Глория снова напевает без слов твою песню. Я спрашиваю, откуда она ее знает, не сама ли она ее сочинила. Она пожимает плечами. Я слышу голос своего психиатра из двадцатилетней дали: «Разум может быть очень могуществен, – говорит он, – когда мы отчаянно хотим во что-то верить».
По дороге домой – мимо лошадей, видящих навеянные жаждой сны, мимо коровьих хвостов, отмахивающихся от тех же назойливых мух, мимо амишевских женщин, развешивающих выстиранное белье, – Глория снова начинает напевать без слов твою песню.
В тот вечер после ужина Сэм говорит:
– Хорошие новости. Утром у нас будет машина напрокат.
Глория знаками показывает что-то матери.
– Нет, – говорит Эвелин. – Ральф не может остаться.
Глория снова что-то показывает.
– Она не твоя собака, – говорит Эвелин.
– Я же говорил тебе, – говорит ей Джей. – Нам нужно купить ей собаку.
Мы сидим на веранде. Через неплотно прикрытую дверь я слышу вечерние новости. Что-то о войне – о войне, о которой я знаю очень мало, если не считать того, что неизбежно рассказывает мне мать, когда мы с ней видимся [15] .
Глория смотрит на меня долгим взглядом. Подходит ближе. Улыбается, указывает на свое лицо, затем простирает руки.
– Это игра, – поясняет Эвелин. – Она хочет, чтобы ты сильно засмеялся.
– Чему засмеялся?
– Не имеет значения, – говорит Джей.
Я притворно смеюсь в угоду Глории.
Она прикладывает указательные пальчики к щекам, под глазами, и оттягивает нижние веки вниз.
– Заплачь чуть-чуть, – говорит Джей, и я надуваю губы, всхлипываю и закрываю руками лицо, издавая звуки тихого плача.
Она отнимает мои ладони от лица.
Я перестаю «плакать»; она заглядывает мне в глаза, чтобы убедиться, что слез нет. Делает еще один знак, и Джей говорит:
– А теперь заплачь сильно, – и я «пла́чу» громче, мои плечи вздрагивают. Она снова отнимает мои ладони от лица.
Утром, прямо перед отъездом, я прошу Сэм подождать.
– Забыл свои ключи, – говорю я.
Я поднимаюсь наверх, в комнату Глории, где она спит, лежа на спине, одна рука откинута на край кровати, другая прикрывает глаза, точно она пытается не видеть того, что ей снится.
Я испытываю желание прикоснуться к ее лицу, укрыть ее одеялом. Я хочу спросить, конечно, здесь ли ты – вправду ли это ты. Я хочу сказать что-нибудь, оставить ей записку под подушкой, но не представляю, что можно было бы написать в такой записке.
Полагаю, эта книга и есть моя записка.
Несколько минут смотрю, как она дышит, и представляю ее старше, молодой женщиной. Перед моим мысленным взором разыгрываются различные версии ее жизни. В некоторых вариантах пожилой мужчина, похожий на меня, рассказывает ей историю. Мы сидим на скамейке в парке, или в моем доме в Чилмарке, или на кладбище за домом в Квинсе, но я всякий раз рассказываю ей эту историю. И все время прошу ее рассказать мне, как она заканчивается.* * *
Пока мы тащим ее сумку вверх по лестнице к квартире – она живет в нескольких кварталах от знаменитого «Утюга», – Сэм говорит, что у нее плохое предчувствие.
Она и в машине это говорила. Она боялась возвращения домой, как боялся и я – возвращения в Чилмарк, я имею в виду, – и поэтому я сказал ей, что она может отвезти меня в Нью-Йорк. Нет никакой необходимости довозить меня до самого парома. Я повидаюсь с матерью – она будет рада.
– Иногда, – говорила она в машине, – я просто заранее знаю.
Теперь она медлит, прежде чем пройти последний оставшийся до четвертого этажа пролет лестницы. Ральф уже наверху, ждет нас.
Я обхожу ее, иду дальше.
– Какой у тебя номер квартиры?
– Четыреста двенадцатая, – говорит она. – Вторая слева.
Сразу ясно, что ее ограбили: сломана дверная ручка, дверной косяк расщеплен.
Я вхожу в квартиру без страха, но мужество здесь ни при чем. Есть разница между мужеством, которое связано с храбростью, и бесстрашием, которое связано – по крайней мере, в моем случае – с убежденностью в том, что тебе больше нечего терять.
Практично разделенная практичность, несколько комнат внутри одной. Крохотная кухонька, которой едва хватает, чтобы двое стояли в ней спиной к спине – один может мыть посуду, пока второй вытирает, один нарезает овощи, пока второй готовит. Здесь царит некий хаотический порядок: книги выставлены по алфавиту, по фамилиям авторов, на встроенных полках; три заляпанных масляной краской деревянных стула вокруг маленького столика. На большом деревянном письменном столе: стопки бумаг, кофейная кружка, лэптоп. На стенах висят несколько картин и две потускневшие фотографии: мужчина, который мог бы быть ее отцом, и еще один, который мог бы быть ее братом. Те же рыжие волосы, та же форма рта. Неубранный выдвижной диван-кровать, два кресла, маленький телевизор. Пустая фоторамка сверху на телевизоре и еще одна – на маленьком угловом столике. Голая стена с двумя крючками. Под каждым крючком призрачное пятно – темный квадрат – от того, что когда-то здесь висело. Вот и все, дверь к пожарному выходу, в двенадцати шагах. Никаких других следов взлома: по полу ничего не разбросано, ни одного выдвинутого ящика.
– Я так и знала, – говорит она от входной двери.
– Твой компьютер на месте.
– Вот ублюдок!
– Кто?
– Тот, кто это сделал.
– Входи, опасности нет, – говорю я ей.
Ральф исследует квартиру нюхом: коврик, постельное белье, туфли Сэм, выстроившиеся возле двери.
Сэм входит, держа в руках стопку почты, скопившейся за три недели. Встает в центре комнаты и поворачивается на месте; роняет почту на пол. Потом проверяет ванную; я слышу, как она отдергивает душевую занавеску.
Открывает дверь своего шкафа, заглядывает между висящими блузками и платьями. Просматривает ящики – комод, письменный стол, кухня – и все время бормочет:
– Сукин сын, вот сукин сын, – а потом останавливается у холодильника. Записка, выложенная магнитами – крохотные буковки, которые я не могу разглядеть. Подхожу ближе и вижу слова ТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЯ, но она заслоняет их собой. Потом резким движением смахивает магниты на пол.
– Что там было написано?
– Ничего, – говорит она.
– Тебе следовало бы позвонить в полицию.
– Ничего не пропало.
– Может быть, тебе так кажется.
– Здесь нет ничего, чего мне было бы жаль лишиться, – говорит она. – Кроме этого, – она указывает на фотографию в рамке на стене за письменным столом: длинные волосы, длинные ресницы, прикрытые глаза, приоткрытые губы, будто он вот-вот заговорит.
– Даже если ничего не пропало, это все равно преступление.
В кармане у нее играет сотовый телефон; она достает его и ставит на беззвучный сигнал, не глядя, кто звонит.
– Тебе, по крайней мере, следовало бы позвонить слесарю, – говорю я ей.
Она садится на диван и закрывает глаза. Ее сотовый опять звонит; она смотрит на номер, затем вынимает батарейку и кладет ее вместе с телефоном рядом с книгой, которая называется «Разговор с Богом», со старым номером «Нью-Йоркера» и пепельницей, наполненной сигаретными окурками.
– Я не знал, что ты куришь.
– Я и не курю, – говорит она.
Ральф скулит в дверном проеме; до меня доходит, что я все это время держу ее поводок в руке, намотав его на сжатый кулак.
– Не уходи, – просит Сэм.
– Она, конечно, умница, но не может гулять одна.
– Ладно, только возвращайся.
– От меня начинает скверно пахнуть.
– Возвращайся, и мы примем душ.
Потом:
– Я не имею в виду – вместе. Просто… послушай, я не чувствую себя здесь в безопасности.
– Если хочешь, я могу придвинуть твой письменный стол к двери.
– Отлично, – говорит она. – Тогда ты не сможешь уйти.
Она отдает мне диван; сама она ложится спать в спальном мешке на полу, но когда я просыпаюсь ночью, она лежит рядом со мной, на краешке матраца, свесив одну ногу на пол. Она практически неподвижна, когда спит; я с трудом могу разглядеть, как чуть вздымается и опадает ее спина. Голова накрыта подушкой; она могла бы быть почти кем угодно.
Ральф – бесформенная груда в слабом свечении электронного будильника. Именно из-за Ральф все кажется странным: она здесь как бы вне контекста. Да, она счастлива где угодно и с кем угодно, существо настоящего; это мне в ней больше всего и нравится, но мне хотелось бы, чтобы было по-другому – чтобы ее ощущение прошлого шло дальше обоняния. Позволь, я скажу это: чтобы она была способна скорбеть; чтобы мы могли скорбеть вместе.