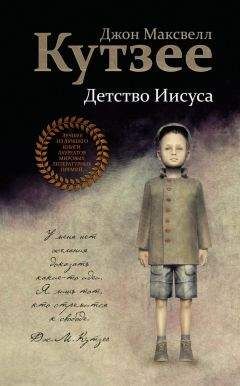– Нет! Это моя мать должна меня уважать! И вообще – сеньор Дага говорит, что Дон Кихот устарел. Он говорит, что на лошадях уже больше никто не ездит.
– Ну, если б захотел, ты бы легко доказал ему, что он ошибается. Садись на коня и высоко поднимай меч. Тут-то сеньор Дага и замолчит. Садись на Эль Рея.
– Эль Рей умер.
– Нет, не умер. Эль Рей жив. И ты это знаешь.
– Где? – шепчет мальчик. Глаза у него внезапно наполняются слезами, губы дрожат, ему этого слова и не вымолвить.
– Я не знаю, но где-то Эль Рей тебя ждет. Если поищешь – наверняка найдешь.
Сегодня его выписывают из больницы. Он прощается с медсестрами. Кларе говорит:
– Я не забуду вашу заботу. Хочется верить, что за нею – не одна лишь благая воля.
Клара не отвечает, но из ее прямого взгляда он понимает, что прав.
Больница выделила машину и шофера довезти в его новый дом в Западных кварталах. Эухенио вызвался проводить его и посмотреть, как он устроился. Они выезжают на дорогу, и тут он просит шофера сделать крюк через Восточные кварталы.
– Я не могу, – отвечает шофер. – Не положено.
– Пожалуйста, – просит он. – Мне нужно забрать кое-какую одежду. Всего пять минут.
Шофер неохотно соглашается.
– Ты говорил, что у твоего мальца трудности с учебой, – говорит Эухенио, пока они сворачивают к востоку. – Что за трудности?
– Школьное руководство хочет его у нас забрать. Силой, если потребуется. Они хотят вернуть его в Пунто-Аренас.
– В Пунто-Аренас! Почему?
– Потому что они построили в Пунто-Аренас школу специально для детей, которым скучно слушать про Хуана и Марию и чем они там были заняты у моря. Кому скучно, и кто свою скуку показывает. Для детей, которые не подчиняются правилам сложения и умножения, преподанным учителем. Рукотворным правилам. Два и два не всегда равно четырем и так далее.
– Плохо дело. Но почему твой мальчик не хочет складывать, как ему учитель говорит?
– С чего бы? Внутренний голос мальчика подсказывает ему, что взгляд учителя неверен.
– Не понимаю. Если правила верны для тебя, для меня и для всех остальных, как они могут быть неверны для него? И почему ты зовешь их рукотворными правилами?
– Потому что два и два может быть запросто равно трем или пяти, или девяносто девяти, если мы так решили.
– Но два и два равно четырем. Если только ты не подразумеваешь что-то странное, особенное под словом «равно». Сам посчитай: один, два, три, четыре. Если два и два действительно равнялось бы трем, все бы рухнуло в хаос. Мы бы жили в другой вселенной, с другими физическими законами. В существующей вселенной два и два равно четырем. Это всемирное правило, от нас оно не зависит и совсем не рукотворное. Даже если б нас с тобой не было, два и два все равно равнялось бы четырем.
– Да, но какие два и какие два равны четырем? Обыкновенно, Эухенио, я думаю, что ребенок попросту не понимает числа, – как не понимает кошка или собака. Но временами я себя спрашиваю: есть ли кто-то на земле, для кого числа действительнее?.. Пока я лежал в больнице, делать мне было нечего, и я пытался, в порядке умственного упражнения, посмотреть на мир глазами Давида. Положи перед ним яблоко – что он видит? Какое-то яблоко – не одно яблоко, а просто яблоко. Положи два яблока. Что он видит? Просто яблоко и просто яблоко: не два яблока, не одно яблоко дважды, а просто яблоко и яблоко. И тут появляется сеньор Леон (сеньор Леон – его классный руководитель) и спрашивает: «Сколько тут яблок, дитя?» Какой ответ? Что такое «яблоки»? Каково единственное число того, для чего «яблоки» – множественное? Трое людей в автомобиле едут в Восточные кварталы: каково единственное число тому, для чего «люди» – множественное? Эухенио, или Симон, или наш друг-шофер, имени которого я не знаю? Нас трое или же мы – один, один и один?.. Ты всплескиваешь руками от раздражения, и я понимаю, почему. Один, один и один – это три, скажешь ты, и я готов согласиться. Трое людей в машине – все просто. Но Давид нас не понимает. Он не делает те же шаги, что мы все, когда считаем: один шаг два шаг три. Для него числа – словно острова, плавающие в громадном черном море пустоты, и его каждый раз просят закрыть глаза и нырнуть в пустоту. А если я упаду? – вот что он себя спрашивает. – Что, если я упаду и буду падать вечно? Лежа по ночам в постели, я, клянусь, тоже будто падал – подпадал под те же чары, что действуют на мальчика. «Если это так трудно – добраться от одного до двух, – спрашивал я себе, – как же вообще дотянуться от нуля к единице?» Из ниоткуда куда-то – тут же, кажется, нужно настоящее чудо.
– У мальчика и впрямь живое воображение, – задумчиво произносит Эухенио. – Плавучие острова. Но он из этого вырастет. Это все наверняка от застарелой неуверенности. Нельзя не заметить, как легко он взвинчивается, какой возбужденный делается без всякого повода. Может, за этим кроется какая-то история, ты не знаешь? У него родители много ругались?
– Родители?
– Его настоящие родители. Может, у него какая-нибудь травма прошлого, шрам? Нет? Ну, не важно. Как почувствует себя уверенно в своем окружении, как до него начнет доходить, что вселенная – не только пространство чисел, но и все остальное, – управляется законами, что все происходит неслучайно, он образумится и успокоится.
– То же нам сказал и школьный психолог. Сеньора Очоа. Когда прочувствует себя в мире, когда примет себя, исчезнут его трудности с обучением.
– Уверен, она права. Просто нужно время.
– Возможно. Возможно. Однако вдруг не мы правы, а он? Что, если между двумя и тремя нет моста, а одно лишь пустое пространство? И что, если мы, так уверенно делающие этот шаг, на самом деле валимся в пустоту, просто не знаем об этом, потому что не снимаем с глаз повязки? А ну как только у этого мальчика – единственного из всех нас – глаза зрячи?
– Это все равно что сказать: «А ну как безумцы на самом деле здравы, а здравые – на самом деле безумцы?» Это, уж прости меня, Симон, мудрствования школьника. Кое-что – попросту истина. Яблоко есть яблоко есть яблоко. Яблоко и еще одно яблоко – будет два яблока. Один Симон и один Эухенио – два пассажира автомобиля. Ребенок, которому это принять легко, – обычный ребенок. Ему легко, потому что это истина, потому что мы с рождения, так сказать, с ней сонастроены. А что до страха упасть в пустоту между числами – ты когда-нибудь говорил Давиду, что число чисел бесконечно?
– И не раз. Я говорил ему, что последнего числа не существует. Что числа уходят в бесконечность. Но при чем здесь это?
– Бесконечности бывают благие и порочные, Симон. Мы с тобой как-то говорили о порочных бесконечностях – помнишь? Порочная бесконечность – это оказаться во сне, который сам – сон внутри третьего сна, и так далее нескончаемо. Или оказаться в жизни, которая лишь прелюдия к другой жизни, которая тоже лишь прелюдия, и так далее. Числа – они не такие. Числа составляют благую бесконечность. Почему? Потому что числа им нет, и они заполняют собой вселенную, прилегая друг к другу плотно, как кирпичи. Так что мы спасены. Падать некуда. Скажи об этом мальчику. Это придаст ему уверенности.
– Так и сделаю. Но почему-то я думаю, что это его не утешит.
– Пойми меня правильно, друг мой. Я не защищаю школьную систему. Согласен, она очень жесткая, очень старомодная. С моей точки зрения, много чего можно было бы сделать для более практичного, более профессионально-ориентированного образования. Давид мог бы выучиться на слесаря или плотника, к примеру. Для этого высшей математики не требуется.
– Или на грузчика.
– Или на грузчика. Грузчик – вполне почетное занятие, как мы оба знаем. Нет, я с тобой согласен: твой малец хлебает лиха. И все же учителя по-своему правы, верно? И дело не только в следовании правилам арифметики, но и правилам вообще. Сеньора Инес – очень милая дама, но она чрезмерно балует ребенка, это все видят. Если ребенку постоянно потакать и говорить, что он особенный, если разрешить ему выдумывать правила по ходу дела, что за человек из него вырастет? Может, некоторая дисциплина на этом этапе жизни юному Давиду и не повредила бы.
Хоть он и чувствует к Эухенио величайшую благую волю, хоть его и трогает готовность Эухенио дружить со старшим товарищем, а также многая доброта молодого человека, хоть и не винит он его в том, что произошло в порту – сядь он за рукоятки подъемного крана, справился бы не лучше, – в глубине души он так к Эухенио и не проникся. Он считает его чопорным, зашоренным и напыщенным. Он ощетинивается от его критики Инес. И все же сдерживается.