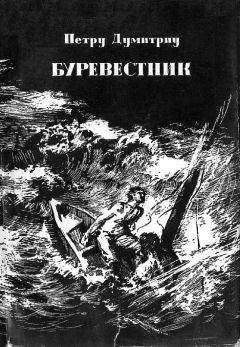Болели ребра, все кости, все тело… Он сплюнул кровью и растер плевок босой ногой. Когда он швырнул сапоги, один из них ударился о ножку кровати. Прикоп открыл правый глаз — левый был зарыт в подушке — и внимательно посмотрел на брата своим холодным, мутным взглядом. Симион улегся. Лицо его кривилось от боли: оно все было в кровоподтеках. Он глухо стонал и разговаривал сам с собой. Прикоп поднял голову с влажной от пота подушки и открыл второй глаз.
— Что с тобой? — спросил он сонным голосом.
Симион не ответил и с головой укрылся красным стеганным одеялом. Его сейчас же бросило в пот. Прикоп приподнялся в кровати, протянул руку и потряс брата за плечо. У того вырвался хриплый вопль — Прикоп тронул место, которым он ударился о камни.
— Да что с тобой в самом деле? — повторил он, стягивая с Симионовой головы одеяло.
Симион упорно молчал. Один глаз у него затек и распух, щеки были в синяках, губа разбита и окровавлена.
— Кто это тебя разукрасил? — спросил Прикоп.
Симион, не открывая глаз, пожал плечами.
— Кто? Говори!
Симион открыл здоровый глаз — другой не открывался — и сказал, давясь кровью:
— Жора.
Прикоп промолчал. Он сел в кровати, обняв колени, и долго просидел так, не двигаясь. Симион прерывающимся от боли голосом рассказал ему все, что с ним случилось. Прикоп слушал, уставившись на дверь. По полу гуляли большие черные тараканы, потревоженные ярко пылавшей лампой, в которой Прикоп припустил фитиль.
— Дурак! — сказал он со злобой. — Другой бабы не нашел? — У этой только и есть, что рубашка, которая на ней. Отец ее, Ерофей, — нищий. Слышишь? Нищий! На что она тебе?
— А тебе какое дело? — простонал Симион и принялся бранить Ульяну скверными словами, пока не устал.
Потом вздохнул и решил:
— Я на ней женюсь.
Прикоп презрительно засмеялся:
— А старик согласится?
«Стариком» они называли отца, Евтея Данилова.
— Пускай не соглашается, — проговорил Симион сквозь зубы. — Я все равно ее возьму — пускай мне милостыню просить придется, как слепому Ибрагиму. Ох!
Он со стоном повернулся на другой бок. Прикоп посмотрел на него, потом снова перевел взгляд на дверь и стал думать об Адаме. Думал он долго. Началось с того, что весь сон у него прошел, потом ему стало страшно. Его даже бросило в дрожь, когда представилось, как он встречается с Адамом. Встречается и говорит ему разные слова, потом бьет по морде, плюет ему в рожу, валит на землю и топчет ногами, приговаривая: «Ты кто такой? Ты что о себе воображаешь? Босяк ты, больше ничего, шваль последняя, у нас из милости работаешь, на нашей лодке. И еще снасть нашу, сукин сын, в море бросаешь!» Потом изо всей силы колотит его, лежачего, кулаками: «Смеешь на моего брата руку поднимать, а? Дерешься, а? Мы тебя проучим, попрошайка, мерзавец, будешь помнить! К девкам шляешься, сволочь паршивая!»
Прикоп дрожал от душившей его ненависти. Ему вдруг безумно захотелось получить неограниченную власть над Адамом, пырнуть его ножом, видеть, как острая сталь входит в мягкое тело…
Но этого нельзя. Арестуют, посадят в тюрьму, будут судить, старику придется платить невесть сколько денег адвокатам, которые все равно не помогут, — несколько лет придется просидеть. На селе после этого никто не станет с ним здороваться, разговаривать, шутить… Нет, это не годится. Избить — другое дело. Избить до полусмерти, разукрасить почище, чем он Симиона, чтобы встать, мерзавец, не мог…
Но вот вопрос: кто согласится его бить? Остальные даниловские парни не согласятся, никого на него не натравишь — он со всеми приятель.
Значит, бить Жору нужно будет ему самому вместе с Симионом. Но Симион несколько дней, а может и всю неделю, пролежит в кровати. Ишь, как стонет! Стало быть, расправляться с обидчиком придется ему одному, Прикопу.
Ему снова представилось, как он встретится с Адамом, как изобьет его до полусмерти. Но было не совсем ясно, как именно это получится, — будто что-то не клеилось… «Адам на голову выше нас обоих, — думал Прикоп, — да и парень он бедовый — не дай бог. Раз ударишь — ничего, два — ничего, а потом вдруг осатанеет — удержу нету, тогда плохо».
Он опять тронул Симиона:
— Как было дело? Оземь он тебя что ли грохнул?
Симеон простонал и прохрипел что-то, чего брат не разобрал. «Значит, оземь, — соображал Прикоп. — Поднял, как мешок с картошкой, и швырнул. Нет, так просто Адама Жору не одолеешь…»
Прикоп даже вспотел от бессильной ярости. Спустившись с кровати в своей красной, в квадратиках, рубахе и подвязанных на лодыжках исподних, он потушил лампу и некоторое время, не зная на что решиться, простоял в темноте. Да, сам он ничего не мог поделать с Жорой, он был совершенно бессилен. Прея в кровати под слишком теплым одеялом, Симион громко храпел.
Прикоп вышел из комнаты, прошел через галерею, где у стенки стояли рыболовные снасти и лежал в углу смотанный невод, и открыл дверь во двор.
— Кто там? — раздался чей-то бас.
— Я, батя, Прикоп.
Евтей сидел, положа руки на колени, на скамейке под виноградной лозой с высохшими листьями, которая вилась по фасаду дома. Он был в длинной белой рубахе. Прикоп спустился по ступенькам — их было всего две — с галереи и прошел за малой нуждой на задворки; потом вернулся и уселся на скамейке, рядом с отцом.
— Не спится, батя?
— Да вот поел за ужином колбасы, что в сале впрок заготовлена, и чего-то заснуть не могу, — пробормотал Евтей в бороду.
У него был плоский волосатый затылок и толстая, заросшая бородой шея. Говорил он в бороду, густым басом — словно из колодца, из которого вырос куст.
— Кручусь на кровати, с боку на бок переваливаюсь, а в мыслях то, чего, кажется, от роду не бывало… Дай-ка, думаю, я лучше вольным воздухом подышать выйду…
Прикоп решил, что со стариком действительно происходит неладное, если он так разболтался. За целую неделю, кажется, столько не наговорил, сколько теперь за несколько минут. Обычно, обращаясь к сыновьям, он ограничивался короткими приказаниями: «Выходи на работу!» или: «Ступай домой!» или: «Прочь отсюда, дармоеды» и т. д. Все в том же роде.
— Мысли, говоришь, у тебя разные, батя?..
— Мысли, сынок. Даже мне удивительно, как это я о всем помню, — словоохотливо и неожиданно благосклонно ответил Евтей.
Прикоп чуть не рассмеялся, но удержался и только вздохнул. Веселость его была вызвана не произошедшей в отце переменой, а неожиданно возникшим у него самого планом, от которого все вдруг стало ему ясно. Парень даже вздрогнул от волнения.
— Да, да, — пробормотал он торопливо, — я тоже много думал… Ни за что, наверно, не угадаешь о чем…
— О чем? — спросил Евтей и нахмурился.
Над их головой шелестела мертвой листвой виноградная лоза. Собаки хрипло лаяли где-то на краю села.
— Думал ли ты о том, почему спасся Адам Жора, а те двое потонули? — сказал Прикоп.
Евтей не ответил. Грузно и тихо, словно даже не дыша, он сидел на скамейке в своей длинной посконной рубахе, положив на колени тяжелые руки.
— Когда это еще случалось? — спросил Прикоп. — Никогда этого, спокон веку, не бывало. Либо все трое живы оставались, либо всем каюк. Верно?
Отец молчал.
— Говори, верно?
— Продолжай, — сказал Евтей.
Много я об этом, батя, думал, и все теперь мне ясно, словно я с ними в лодке был. У них, должно быть, ссора вышла: Жора, наверно, сказал, что лучше контрабанду возить, чем рыбу ловить, — заработку больше, а Филофтей — сам знаешь, какой он законник был, богобоязненный, — не захотел. Ну, конечно, поссорились, подрались и этот самый Жора — он как бык здоровый — выкинул его из лодки, да еще бабайкой прихлопнул, тот и потонул.
— Ну, а Трофим? — сердито спросил Евтей. — Трофим-то в это время что делал? Видишь, какой ты вздор мелешь!
— Трофим, сам знаешь, был дурак и мямля. Пока он сообразил, что нужно делать, Филофтей уже был готов. Попробовал, конечно, а тот его веслом огрел и конец.
Наступило молчание.
— На его счастье был шторм. Повезло негодяю. Никто на него не подумал, а удивиться, конечно, удивлялись — все удивлялись…
Прикопа трясло как в лихорадке. С моря дул холодный ветер, от которого сухо шелестела листва на лозе. Шум прибоя заглушал стрекотавших в траве кузнечиков.
— А может, конечно, и так все было, как он рассказывал, или еще как-нибудь, — нехотя проговорил Прикоп. — Кто знает? Мне просто взбрело на ум…
Он погрузился в мрачное молчание. Хотелось курить, но лень было идти за папиросой. Чего-то словно не хватало, словно он потерял что-то или о чем-то позабыл…
— Что же он, разве такой человек? — сердито спросил Евтей.
— Отчаянный, — ответил Прикоп. — Это-то уж наверно известно, — прибавил он решительно. — В драке — сатана; упаси бог с ним не поладить.
— Вздор! — презрительно фыркнул отец.