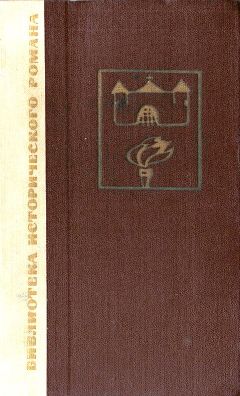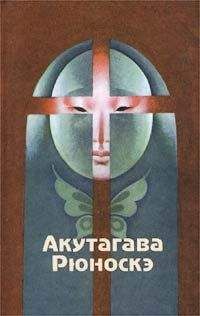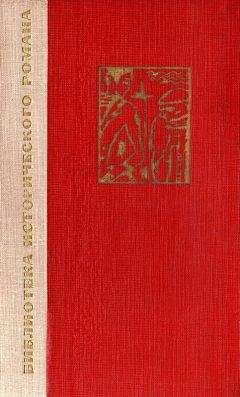— Чудесная, чудесная легенда! — воскликнул Бен-Саиб. — Отличная получится статья. Описание чудовища, ужас китайца, бушующие волны, заросли тростника… А как полезна для сравнительного изучения религий! Подумайте, китаец-язычник в минуту смертельной опасности взывает к святому, о котором знал, вероятно, лишь понаслышке и в которого не верил… Уж тут никак не подойдет пословица: «Лучше заведомое зло, чем неведомое благо». Если бы я очутился в Китае и попал в такую беду, я скорее воззвал бы к самому последнему святому из наших святцев, чем к Конфуцию или к Будде. Это свидетельствует либо о несомненном превосходстве католичества, либо о нелогичности и непоследовательности мышления у индивидуумов желтой расы; разрешить этот вопрос поможет лишь основательное изучение антропологии.
Бен-Саиб рассуждал профессорским тоном, очерчивая в воздухе круги указательным пальцем и восхищаясь собственным умом, который из ничтожных фактов извлекал столь важные и далеко идущие выводы. Заметив, что Симоун задумался, Бен-Саиб решил, что тот размышляет над его словами, и спросил, о чем он думает.
— О двух весьма важных предметах, — отвечал Симоун, — точнее, о двух вопросах, которые вы можете включить в свою статью. Первый: что сталось с дьяволом, после того как его обратили в камень? Освободился ли он от заклятия или остался на месте? И второй вопрос: быть может, те окаменелые животные, которых я видел в европейских музеях, тоже жертвы какого-нибудь допотопного святого?
Ювелир, приставив палец ко лбу, говорил так серьезно и глубокомысленно, что отец Каморра в тон ему ответил:
— Как знать, как знать!
— Господа, мы подходим к озеру, — вмешался отец Сибила, — и если уж вспоминать легенды, то наверняка наш капитан знает их немало…
В это время пароход выплыл на широкий разлив, и взору путешественников открылась поистине великолепная панорама. Всех охватило волнение. Прямо впереди простиралось окаймленное зелеными берегами и синими горами прекрасное озеро, подобное огромному полукруглому зеркалу в раме из сапфиров и изумрудов, в которое гляделось небо. Справа берег был низкий, со множеством живописных бухт и смутно видневшимся вдали мысом Сугай; впереди на горизонте величаво высился могучий Макилинг[32] в венце из кудрявых облачков, а слева — остров Талим, с мягкими линиями холмов, «Девичья грудь», как называют его тагалы.
Дул свежий ветерок, синяя гладь озера была подернута легкой рябью.
— Кстати, капитан, — сказал Бен-Саиб, оборачиваясь, — не знаете ли вы, где тут на озере погиб этот, как бишь его, Гевара, Наварра, нет, — Ибарра?
Все взглянули на капитана, только Симоун пристально смотрел на берег, словно хотел что-то отыскать там.
— Да, да, — встрепенулась донья Викторина. — Где это, капитан, где? Быть может, там остались какие-нибудь следы?
Добряк капитан подмигнул несколько раз, что выражало у него сильную досаду, но, видя умоляющие глаза пассажиров, прошел несколько шагов вперед, на нос, и оглядел берег.
— Посмотрите вон туда, — полушепотом сказал он, удостоверившись, что на палубе нет посторонних. — По словам капрала, который командовал отрядом, Ибарра, убедившись, что окружен, выпрыгнул из лодки в воду вблизи Кинабутасана[33] и пустился вплавь к берегу. Он проплыл больше двух миль, и каждый раз, как высовывал голову, чтобы набрать воздуху, по нему стреляли. Потом его потеряли из виду, а немного погодя у самого берега вода как будто окрасилась кровью… Да, кстати, сегодня ровно тринадцать лет, день в день, как это случилось.
— Стало быть, его труп… — начал Бен-Саиб.
…отправился к трупу его отца, — подхватил отец Сибила. — Тот ведь тоже был флибустьером, правда, отец Сальви?
— Вот погребение, не требующее расходов! — воскликнул Бен-Саиб. — Согласны, отец Каморра?
— Я всегда говорил, что флибустьеры не любят тратиться на пышные похороны, — с веселым смехом отвечал тот.
— Да что это с вами, сеньор Симоун? — спросил Бен-Саиб, заметив, что ювелир стоит неподвижно и молчит. — Неужто вас укачало? Вас, путешественника, на этой лужице?
— Насчет лужицы это вы зря, — возмутился капитан, который за долгие годы службы на «Табо» полюбил эти места. — Наше озеро больше любого швейцарского и всех озер Испании, вместе взятых. Я знавал и старых моряков, которых здесь укачивало.
Читавшие первую часть этой повести, возможно, помнят старика дровосека, который жил в лесной чаще.
Танданг Село здравствует и поныне и, хотя волосы его совсем побелели, на здоровье не жалуется. Правда, на охоту он уже не ходит и дрова в лесу не рубит, — семья теперь живет в достатке, и старик проводит время за вязаньем метел.
Его сын Талес (уменьшительное от Телесфоро) арендовал прежде участок у богатого помещика, но затем, обзаведясь двумя буйволами и несколькими сотнями песо, решил трудиться на собственной земле. Отец, жена и трое детей помогали ему.
Неподалеку от деревни они выкорчевали и расчистили густые заросли, которые, как они думали, не имели хозяина. Пока осушали и распахивали участок, вся семья, один за другим, переболела лихорадкой, а жена и старшая дочь Лусия, цветущая девушка, умерли от этой изнурительной болезни. Причиной лихорадки были ядовитые испарения, поднимавшиеся из болотистой почвы, но Талес и его семья объяснили свои несчастья местью лесного духа. Смирившись с горем, они продолжали трудиться, надеясь, что дух уже умилостивлен. Когда же подошло время первого урожая, монашеский орден, владевший землями в соседней деревне, предъявил права на их поле, утверждая, что оно находится в его владениях, и в доказательство немедленно расставил вехи. Однако отец эконом из милости позволил Талесу пользоваться урожаем с этой земли при условии, что он ежегодно будет платить монахам небольшую сумму, сущий пустяк, двадцать — тридцать песо.
Талес, человек на редкость миролюбивый, ненавидевший тяжбы, что свойственно многим, и почитавший монахов, что свойственно немногим, сказал, что «глиняный горшок с чугунным котлом не спорит». И уступил монахам. У него не хватило мужества воспротивиться их притязаниям, — ведь он не знал испанского языка и не имел денег, чтобы заплатить адвокатам. К тому же Танданг Село твердил ему:
— Терпи! Затеешь тяжбу, в один год истратишь больше, чем заплатил бы святым отцам за десять лет. А они еще отблагодарят тебя своими молитвами. Считай, что эти деньги ты проиграл или уронил в воду, прямо в пасть кайману.
Урожай был хороший, его удалось выгодно продать; тогда Талес начал строить деревянный дом в деревне Сагпанг, входившей в округ Тиани, что вблизи города Сан-Диего.
Прошел год, опять собрали обильный урожай, и монахи под каким-то предлогом подняли аренду до пятидесяти песо. Талес опять заплатил, потому что не хотел ссориться и надеялся получить хорошую цену за свой сахар.
— Терпи! Считай, что кайман подрос, — утешал его старый Село.
В том же году сбылась наконец их заветная мечта: они переехали в свой домик, который поставили в слободе Сагпанг. Талес и старик очень хотели послать в школу обоих детей, главное, Хулиану, или, как ее звали в семье, Хулию, которая росла умной и красивой девочкой. А почему бы и нет? Ведь Басилио, часто бывавший у них в доме, учился в Маниле, хотя происходил тоже из простой семьи.
Но этой мечте, видно, не суждено было сбыться.
Как только односельчане заметили, что семья Талеса выбивается из нужды, ее кормильца поспешили избрать старостой барангая[35]. Тано, старшему сыну, было всего четырнадцать лет, так что старостой — «кабесангом» — стал Талес. Ему пришлось сшить себе куртку, купить фетровую шляпу и приготовиться к еще большим расходам.
Чтобы не прогневить священника и жить в мире с властями, он должен был выплачивать недоимки за выбывших и умерших из своего кармана и тратить много времени на сбор налогов и поездки в главный город провинции.
— Терпение! Представь себе, что к кайману присоединилась его родня, — кротко улыбаясь, говорил Танданг Село.
— В будущем году ты наденешь длинное платье и поедешь в Манилу учиться, как другие сеньориты, — обещал кабесанг Талес своей дочери, когда она рассказывала ему об успехах Басилио.
Но этот будущий год никак не наступал, зато аренда все повышалась; кабесанг Талес мрачнел и почесывал в затылке. Рис из глиняного горшка уплывал в чугунный котел.
Когда аренда возросла до двухсот песо, Талес перестал чесать затылок и вздыхать: он возмутился, начал спорить. Отец эконом на это сказал, что, если Талес платить не может, землю отдадут другому. Желающих найдется много.
Кабесанг Талес подумал было, что монах шутит, но тот говорил вполне серьезно и даже назвал имя одного из своих слуг, которому намеревался отдать участок Талеса. Бедняга побледнел, в ушах у него зазвенело, перед глазами поплыл красный туман, и в этом тумане возникли образы его жены и дочери, бледных, истощенных, умирающих от болотной лихорадки! Потом ему представился густой лес, на месте которого они возделали поле, он видел, как пот ручьями струится в борозды, видел самого себя, несчастного Талеса, пашущего на солнцепеке, ранящего ноги о камни и корни, меж тем как этот монах разъезжал в коляске, а тот, кому предстояло завладеть его, Талеса, землей, бежал сзади, как раб за господином. О нет, тысячу раз нет! Пусть лучше провалятся в преисподнюю и это поле, и все монахи! Какое право имеет этот чужеземец на его землю? Разве привез он из своей страны хоть одну ее горстку? Разве шевельнул он пальцем, чтобы выкорчевать хоть один корень из этой земли?