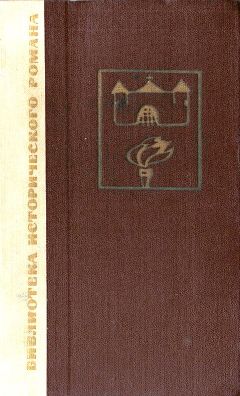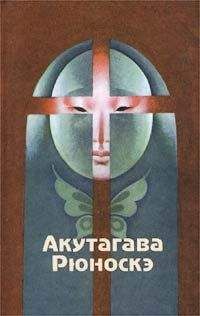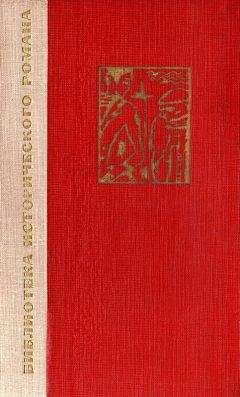— Что вы, сударь, мы со дня на день ждем разрешения, — возразил Исагани. — Отец Ирене, которого вы, наверно, видели наверху, получил от нас в подарок пару гнедых лошадок и пообещал уладить дело. Он должен поговорить с генералом.
— Напрасный труд! Ведь отец Сибила против!
— Пусть против! Для того-то он и едет в Лос-Баньос к генералу, уж там без боя не обойдется.
И студент Басилио выразительно стукнул одним кулаком о другой.
— Все понятно! — рассмеялся капитан Басилио. — Но если вам и дадут разрешение, откуда вы возьмете средства?..
— Они у нас есть, сударь. Каждый студент вносит один реал.
— Ну, а где вы найдете преподавателей?
— Они тоже есть — частью филиппинцы, частью испанцы.
— А помещение?
— Макараиг, богач Макараиг дает нам один из своих домов.
Капитану Басилио пришлось сдаться — эти юноши предусмотрели все.
— А вообще-то, — снисходительно сказал он, — идея вовсе недурна, да-с, недурна. Раз уж латынь теперь не в чести, пусть хотя бы изучат испанский. Вот вам, тезка, доказательство того, что мы идем вспять. В мои времена основательно учили латынь, так как книги у нас были латинские; вы тоже немного занимались ею, но книги у вас уже не латинские, а испанские. И этот дивный язык мало кто знает. «Aetas parentum pejor avis tulit nos nequiores!»[24] — сказал Гораций.
Молвив это, капитан Басилио удалился, величавостью напоминая римского императора. Юноши улыбнулись.
— Ох, уж эти мне старики! — шутливо вздохнул Исагани. — Всюду им мерещатся препятствия. Что ни предложи, во всем видят одни изъяны, а достоинств не замечают. Никак им не угодишь!
— Зато с твоим дядей он отводит душу, — заметил Басилио, — оба так любят толковать о былых временах… Кстати, что сказал дядя насчет Паулиты?
Исагани покраснел.
— Прочел мне целую проповедь о том, как надо выбирать невесту… А я ему ответил, что в Маниле нет второй такой, как Паулита, — красавица, образованна, сирота…
— Богата, изящна, остроумна, один только недостаток — тетка у нее сумасбродная, — со смехом прибавил Басилио.
Исагани тоже рассмеялся.
— А знаешь ли ты, что эта самая тетушка поручила мне разыскать ее супруга?
— Донья Викторина? И ты, конечно, обещал это сделать, чтобы она приберегла тебе невесту?
— Разумеется! Да штука-то в том, что супруг ее прячется… в доме моего дяди!
Оба расхохотались.
— Потому-то мой дядюшка, — продолжал Исагани, — человек прямодушный, не захотел пройти в каюту. Он боится, как бы донья Викторина не стала спрашивать у него о доне Тибурсио. Видел бы ты, какую мину состроила донья Викторина, узнав, что я еду на нижней палубе. Такое презрение было у нее во взгляде…
В эту минуту на палубу спустился Симоун.
— А, мое почтение, дон Басилио, — сказал он покровительственно. — Едем на каникулы? А этот юноша — ваш земляк?
Басилио представил Исагани и объяснил, что живут они по соседству. Исагани был из деревни, находившейся на противоположном берегу залива.
Симоун так пристально рассматривал Исагани, что тот с досадой повернулся и вызывающе глянул ему в лицо.
— А что представляет собой ваша провинция? — спросил Симоун у Басилио.
— Как, вы ее не знаете?
— Откуда мне, черт возьми, знать ее, если я ни разу в ней не бывал? Мне говорили, народ там бедный и драгоценностей не покупает.
— Мы не покупаем драгоценностей, потому что в них не нуждаемся, — отрезал Исагани, в ком заговорила гордость за свой край.
На бледных губах Симоуна мелькнула усмешка.
— Не сердитесь, юноша, я не хотел сказать ничего обидного. Просто я слышал, что почти все приходы этой провинции отданы священникам-индейцам[25], и я сказал себе: монахи всех орденов мечтают получить приход, а францисканцы, так те не брезгуют даже самыми бедными, и если монахи уступают приходы священникам из местных, значит, там и в глаза не видывали королевского профиля[26]. Полноте, господа, пойдемте лучше, выпьем по кружке пива за процветание вашей провинции.
Юноши, поблагодарив, сказали, что пива не пьют.
— И напрасно, — с явной досадой заметил Симоун. — Пиво — штука полезная, нынче утром отец Каморра при мне заявил, что жители этих краев вялы и апатичны оттого, что слишком много пьют воды.
Исагани, который ростом был лишь чуть ниже ювелира, распрямил плечи.
— Так скажите отцу Каморре, — поспешил вмешаться Басилио, исподтишка толкая Исагани локтем, — скажите ему, что, если бы сам он пил воду вместо вина и пива, было бы куда лучше, люди перестали бы о нем судачить…
— И еще скажите ему, — прибавил Исагани, не обращая внимания на толчки, — что вода приятна и легко пьется, но она же разбавляет вино и пиво и гасит огонь, что, нагреваясь, она обращается в пар, что грозный океан тоже вода. И что некогда она уничтожила человечество и потрясла мир до самых оснований!
Симоун вскинул голову; глаза его были скрыты синими очками, но выражение лица говорило, что он изумлен.
— Славный ответ! — сказал он. — Но боюсь, отец Каморра высмеет меня и спросит, когда же эта вода превратится в пар или станет океаном. Он ведь человек недоверчивый и большой шутник.
— Когда пламя разогреет ее, когда маленькие ручейки, что ныне текут разрозненные по ущельям, сольются, гонимые роком, в один поток и заполнят пропасть, которую вырыли люди, — отвечал Исагани.
— Не слушайте вы его, сеньор Симоун, — сказал Басилио шутливым тоном. Лучше прочтите отцу Каморре стихи моего приятеля Исагани:
Вы говорите — мы вода, вы пламя.
Ну что ж, оставим споры,
Пусть мир царит меж нами
И не смутят его вовек раздоры!
Но вместе нас свела судьба недаром —
В котлах стальных согреты вашим жаром,
Без злобы, возмущенья,
Мы станем пятою стихией — паром,
А в нем прогресс и жизнь, свет и движенье!
— Утопия, утопия! — сухо сказал Симоун. — Такую машину еще надо изобрести… а пока я пойду пить пиво.
И, не простившись, он оставил двух друзей.
— Послушай-ка, что с тобой сегодня? Что это ты так воинственно настроен? — спросил Басилио.
— Да так, сам не знаю. Этот человек внушает мне отвращение, чуть ли не страх.
— Я все толкал тебя локтем. Разве ты не знаешь, что его называют «Черномазый кардинал»?
— «Черномазый кардинал»?
— Или «Черное преосвященство», если угодно.
— Не понимаю!
— У Ришелье был советник-капуцин, которого прозвали «Серое преосвященство», а этот состоит при генерале…
— Неужели?
— Так я слышал от одного человека. За глаза он всегда говорит о ювелире дурное, а в глаза льстит.
— Симоун тоже бывает у капитана Тьяго?
— С первого дня своего приезда, и я уверен, что кое-кто, ожидая наследства, считает его своим соперником…
— Думаю, этот ювелир тоже едет к генералу по поводу Академии испанского языка.
Подошел слуга и сказал Исагани, что его зовет дядя.
На корме среди прочих пассажиров сидел на скамье священник и любовался живописными берегами. Когда он вошел на палубу, ему поспешили уступить место, мужчины, проходя мимо, снимали шляпы, а картежники не посмели поставить свой столик слишком близко к нему. Священник этот говорил мало, не курил, не напускал на себя важности; он, видимо, не чуждался общества простых людей и отвечал на их приветствия с изысканной учтивостью, показывая, что очень польщен и благодарен за внимание. Несмотря на преклонный возраст и почти совсем седые волосы, он был еще крепок и сидел очень прямо, с высоко поднятой головой, но в его позе не было и тени надменности. Среди других священников-индейцев, — в то время, впрочем, немногочисленных, служивших викариями или временно замещавших приходских пастырей, — он выделялся уверенной, строгой осанкой, полной достоинства и сознания святости своего сана. С первого взгляда на него можно было определить, что это человек другого поколения, другого времени, когда лучшие из молодых людей не боялись унизить себя, приняв духовный сан, когда священники-тагалы обращались к монахам любого ордена как равные к равным, когда в это сословие, еще чуждое низкой угодливости, входили свободные люди, а не рабы, люди, способные мыслить, а не покорные исполнители. В чертах его скорбного задумчивого лица светилось спокойствие души, умудренной науками и размышлением, а возможно, и личными страданиями. Этот священник был отец Флорентино, дядюшка Исагани; историю его жизни можно рассказать в немногих словах.
Родился он в Маниле в богатой, уважаемой семье и, отличаясь в молодости приятной наружностью и способностями, готовился к блестящей светской карьере. К духовному сану он не чувствовал никакого влечения; однако мать, исполняя обет, заставила сына, после долгого его сопротивления и бурных споров, поступить в семинарию.