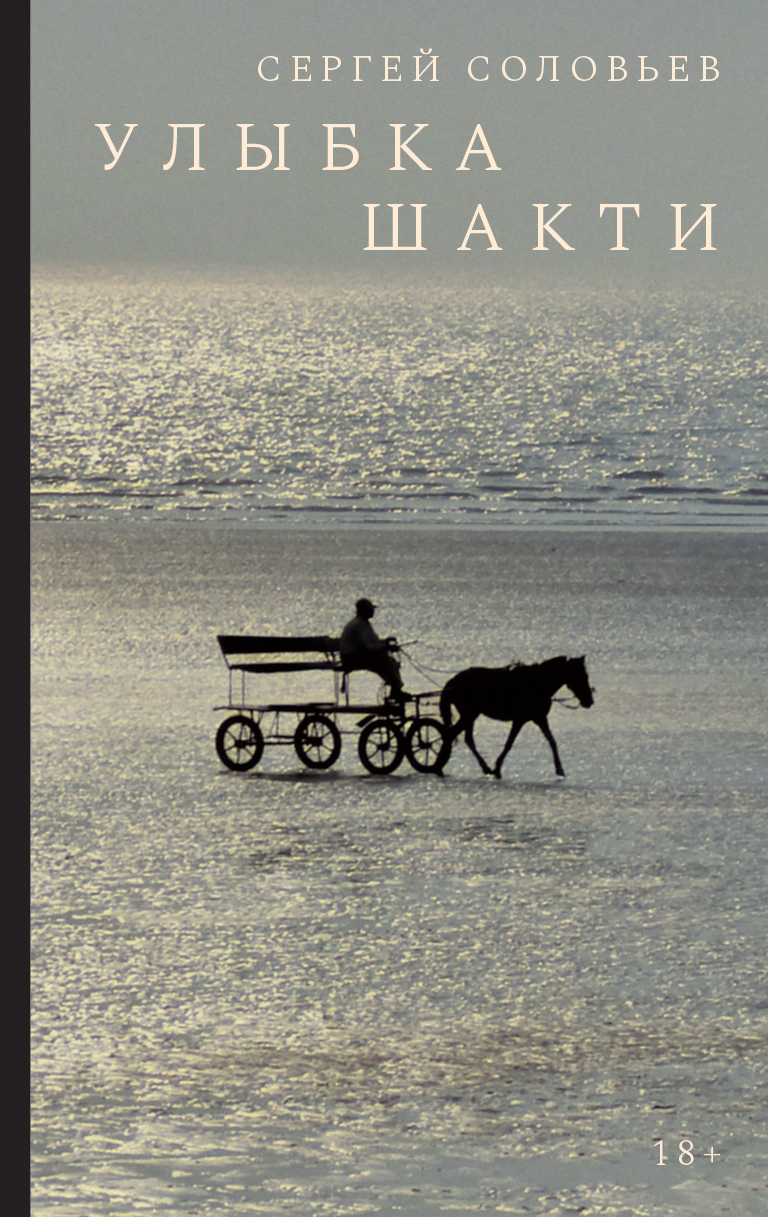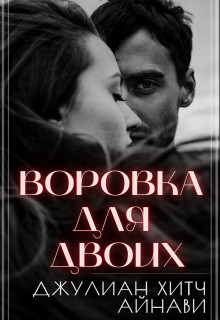человек в призрачном жилье полузабытые предметы.
Тем временем мы с Рамизом переносимся по джунглевым дорогам на хутор, где живет племя комар и плетет солнечные корзины из тростника, вот так и само солнце бы плело себя, продевая лучи по ободку, заговариваясь в руках этого старика, сидящего на рыжей земле двора без двора, рядом с намеком на дом. Подошел песочный пес, понюхал солнце, руку, меня, лег в тени. А мы переходим на край хутора к одиноко стоящему дому, под стеной которого сидит мальчик у кузнечного огня с велосипедным колесом и приводным ремнем для поддува. Из воздуха возникает отец, я спрашиваю глазами – можно ли заглянуть в дом? Двери нет, сумрак, земляной пол, комната три на три, ни шкафа, ни полок, ни вещей, коврик в углу вместо кровати на всю семью, чуть не наступил на куклу, лежавшую на земле раскинув руки. В другой комнатке – кухня, очаг посреди мерцает. Вышел, девочка лет пяти у колонки с водой собрала вымытую железную посуду, несет эту пирамиду, прижав ее верх подбородком, на дороге ее поджидает мать – зеленое, как бывают глаза, с солнечным узором сари, черные волосы до поясницы, и такая легкость во всем теле и лад, хотя она и стоит почти недвижно, ждет с улыбкой. Кажется, что господь в одиночку не смог бы ее создать, только втроем – с лесом и солнцем. Рамиз подходит, видя, куда я смотрю, рассказывает об этой женщине: недавно леопард кинулся на ее дочь, мать успела схватить его за хвост и отшвырнуть. Ну невозможно же! Но здесь это слово надо забыть.
Переехали в другой лес, в деревню племени гонди, на краю ее сияло пустынное лесничество, перестроенное для туристов, которых тут никогда не было. Даже сторожа нет. Чистые светлые номера, застеленные кровати, сад, лангуры на деревьях, один из них прилег на ветке, положив кисти рук под щеку, смотрит поверх моей головы на заходящее солнце. И маленький неглубокий бассейн с рыбками-чистильщиками. Сели с Рамизом, спустив ноги в воду, педикюрные волшебники кинулись к ступням, засуетились. Вот ведь, только вчера еще был бог знает где, по другую сторону Нагри, в какой-то деревушке, имя которой не вспомню, куда привез меня на мотоцикле учитель санскрита, но, как оказалось, не говорящий на этом языке, договорились с ним, что покажет мне округу, жизнь лесных племен, но он боялся туда соваться и даже в лес сворачивать, под каждым предлогом увиливал, так мы доехали до хутора, где его школа находится, вошли, а там дети в коридоре сгрудились вокруг перевернутого ведра, завхоз приподнял его, а под ним гадюка Рассела, детеныш еще, но яда в нем уже будь здоров. Дети в шаге, нагнувшись над ведром. Да, говорят, часто приползают. Потом во дворе выстроились, пели, танец исполнили, а я речь произнес из простых слов, поскольку по-английски даже учитель едва понимал. А потом он собрание учителей затеял, только бы не ехать со мной к племенам, а я шатался по деревушке и вышел на окраину, где женщины стирали белье в пруду, и одна из них вошла по грудь в воду, а сари – ультрамарин с вишней – медленно продвигала рукой по воде чуть впереди себя, змеящийся шелковый путь, путь и она с ладонью воды у губ, нашептывающая в нее перед тем, как пригубить, но так медленно, что слышно, как растут деревья. Я сидел у часовни на берегу и все смотрел, как она выходит из воды, выкручивает это переливчатое небо с моросью, а за ней, на ступенях у воды сидит крестьянин и трет босые ступни о шероховатый камень, скрупулезно, внимательно, долго, и я подумал тогда: вот и мне пора бы прах дорог с ног отереть, а то все идут, идут, уже не помня, кого несут. И вот дня не прошло, а я сижу, опустив ноги в этот бассейн, и волшебные рыбки разматывают пути-дороги с моих ног. А то, хочешь, говорит Рамиз, оставайся здесь, столоваться будешь в домах у племени, я договорюсь, будешь в лес ходить, можно встретить медведя, их немало здесь. Так бы и было, если б не хижина.
Возвращались уже по ночному лесу, все дороги между деревнями тут пустеют с наступлением сумерек, не рискуют даже местные – неспокойный край. Я еще пошучиваю, но вскоре увижу, насколько это всерьез.
Лежал в гостинице под ночной вой собак за ставнями, перебирал в памяти пути-дороги, которые привели меня сюда. Две тысячи километров и десять дней с того времени, когда задумался, куда же ехать? Две тысячи и еще столько же перед тем, но тогда я знал и перемещался с группой по плану – Харнай, Панхаликаджи, тейям в Керале, заповедник Мудумалаи, ласточкино гнездо Рамануджи в Мелукоте и наконец «ватикан джайнизма» в Шраванабелаголе, откуда группа уехала домой, а я остался – выдохнуть и придумать путешествие, куда отправиться на месяц, после которого, в конце марта, собирался вернуться в Бор и доснять фильм про нильгау.
Да, Шраванабелагола, там и наживился этот путь. Дни и ночи можно говорить об этой деревушке и даже не начать. А ты попробуй одной фразой сказать, авось что и проступит, ночь долгая, все равно не уснуть.
Месту этому около трех тысяч лет: два скальных холма, на вершинах которых несколько десятков древних джайнских храмов, а между холмами – сама деревушка с безлюдным священным прудом, похожим на око без зрачка; на одном холме в пятом веке до нашей эры сидит дед Ашоки – великий царь Чандрагупта Маурья, создавший империю Индии, пишет письмо Александру Македонскому, потом принимает джайнизм, отказывается от царства и всего земного, удаляется в пещеру и вслед за своим учителем Бхадрабаху, последним настоящим риши, с уходом которого истинное знание людское, убывая, покатилось с горочки, выдыхает жизнь; все небо над этой деревней соткано из неисчислимых за тысячелетия выдохнутых жизней джайнов; а на другом холме, куда, в отличие от этого, более древнего, устремляются ежедневно толпы приезжих, стоит возведенная в те времена, когда крестилась Русь, восемнадцатиметровая статуя одного из первых джайнских святых Бахубали, говорят, самая большая в мире из монолитных, этого исполина раз в двенадцать лет празднуют миллионы паломников, украшая цветами, умащивая волшбой и мантрами, поливая тоннами молока, шафрана и бог знает чего, а возведена она была по инициативе придворного министра, посвятившего этот титанический труд своей матушке, которую горячо любил, а когда-то он, живой Бахубали, сын царя, стоял годами в лесу в аскезе и такой глубокой медитации, что птицы вили гнезда в его волосах, сейчас он тоже в лесах, но строительных, и трое рабочих перемещаются по его лицу, как три муравья, но так ты и за месяц не расскажешь, просто опиши, например, пару часов любого из тех своих дней; ну вот, выхожу я из своего домика, где прямо под дверью устроилась на полу дюжина уборщиц с бидончиками и плошками еды, вереща и поедая весь этот список, иду с неразлучной моей турочкой и привезенным с горных плантаций юга чудесным кофе к чайханщику, который завидев меня, уже снимает с огня кастрюлю с чаем, протягивает ложку, сахар, я варю, все это без слов, на виду попивающих чаёк утренних индийцев, древних и не очень, с завязанными под подбородком полотенцами и чапаевскими усами, по-английски никто, да и не надо, на пальцах и так понятно, но и их не надо – есть голова и ее покачивание на сто восемь ладов, и вот я иду сквозь и мимо