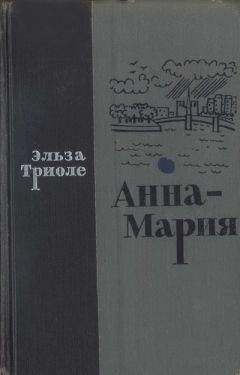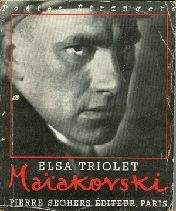Сидя с нами, со своими старыми друзьями, Женни мало разговаривала, видимо целиком поглощенная вязанием… А когда уходила, то возвращалась поздно. Мы ждали ее, беседа не умолкала, но вот появлялась Женни и происходило то, что бывает на сцене, когда вносят свечу: вдруг, вопреки всякому правдоподобию, становится светло, как днем. Нам не нравились ее отлучки, она почти всегда возвращалась печальная, молчаливая, в такие вечера она много пила и курила сигарету за сигаретой.
Вот уже второй раз я застаю ее в ванной перед зеркалом, неподвижную, мрачную. По пояс голая, она сжимает рукой левую грудь и смотрит прямо в глаза своему отражению. В первый раз это показалось мне настолько странным, что у меня помимо воли вырвалось:
— Что ты делаешь?
— Ничего… — ответила она и надела рубашку. Но ее что-то мучило, я прекрасно это видела. И во второй раз я застала ее в той же позе… Но я не стала задавать вопросов. Я должна относиться к ней бережно, хватит того, что ее сердят и утомляют чужие люди. Никто не умеет дружески подойти к ней, будто нарочно, будто никто ее не жалеет…
В тот вечер я почувствовала, что добром дело не кончится. Но расскажу все по порядку, иначе будет не понятно.
Целое утро я бегала по магазинам и, так как запаздывала домой, решила позавтракать в универмаге «Труа Картье». Я люблю время от времени зайти в ресторан вроде «Труа Картье», где все, как на картинках элегантного дамского журнала: изящно накрытый стол, кружева и тонкий цветной фарфор, официантка в маленьком передничке и плоеной наколке, сандвичи — все красиво, все как полагается. И болтовня женщин тоже под стать тому, что печатается в таких журналах: все они, несомненно, прекрасные хозяйки, и дом у них поставлен на такую же ногу, как «Труа Картье» — вышколенные горничные, безупречная сервировка. Побывав среди этих дам, я возвращалась домой успокоенная, умиротворенная, ведь они безошибочно знают, в чем истина, и какое бы то ни было сомнение в их обществе казалось неуместным.
Поэтому атмосфера будуара Женни поразила меня, словно удар в грудь, словно чересчур сильный запах. На низеньком столике — несколько стаканов и кофейных чашек, в пепельницах — горки окурков, все стулья сдвинуты с мест. Но гости уже разошлись. В будуаре находились лишь Женни и… Жан-Жан, брат Женни! Я чуть было не бросилась ему на шею, но он церемонно поцеловал мне руку… Жан-Жан!
Он стоял перед картиной Гойи и казался вписанным в ее золотую раму; лицо у него было какое-то темное, одутловатое, под глазами мешки. В первую минуту я отметила лишь происшедшие в нем перемены и только потом увидела, что у него все тот же правильный нос с трепещущими ноздрями, тот же прекрасный лоб, волосы цвета воронова крыла, тот же бесподобно очерченный рот… Да, брат Женни был все еще хорош собой! Сама она откинулась в кресле, по спинке, как змеи вкруг головы Медузы, рассыпались пряди волос, рука, эта прелестная рука… опять прижата к левой груди… Камилла Боргез и ее муж произвели на свет красивых детей!
Я сразу поняла, что Женни и Жан-Жан ссорятся.
— …а мне все равно, — говорила Женни, — что твоя супруга тебе изменяет, ну и прекрасно, но она спит с немцем из «великой Германии», и тут уж не до смеха… Вдобавок он обходится тебе дорого, и ты вынужден растрачивать казенные деньги, а это уж из рук вон плохо!.. Что ты думаешь об этой истории, Анна-Мария?
О боже, как все сложно на свете!.. Я не видела Жан-Жана, наверное, лет пятнадцать, и теперь сразу, с места в карьер, мне приходится вмешиваться в его жизнь, да еще в какую жизнь! Что я думаю об этой истории… Жан-Жан курил, стоя перед картиной Гойи, словно вписанный в ее золотую раму.
— Не дам я тебе денег, — продолжала Женни, — и не потому, что у меня их нет, мне их девать некуда!.. Но я не одобряю твоего поведения, и мне тебя не жаль. К тому же ты еще и врешь…
Как дрожали руки Жан-Жана! Я не могла этого видеть. Наконец-то я услышала его голос, — до сих пор Жан-Жан не произнес ни слова, даже когда здоровался со мной.
— Я не вру. Я растратил казенные деньги, все равно на что, но…
— Я не желаю пополнять кассу нацистов, — сказала Женни, — любовник твоей жены — нацист. Вы вымогаете у меня деньги на какое-то грязное дело.
— Вовсе не вымогаем… А впрочем, денег у тебя и без того слишком много для коммунистки…
— Убирайся… — Женни не изменила позы, она все так же сидела, откинувшись на спинку кресла… — убирайся… — повторила она очень тихо.
Жан-Жан сунул дрожащую руку в задний карман, но вынул оттуда не револьвер, а обыкновенный портсигар:
— Что — слово «коммунистка» оскорбляет тебя?
— Убирайся… — повторила Женни, сидя все так же неподвижно, и казалось, только волосы ее извивались, как змеи. Но Жан-Жан и не думал уходить, наоборот, он вплотную приблизился к сестре.
— Женни, — произнес он, — умоляю тебя…
Я была бы рада сбежать, но меня словно пригвоздили к стулу.
— Анна-Мария, — обратился ко мне Жан-Жан, — скажи Женни… Слушай, Женни, мне придется…
— Мне все равно, — Женни встала и позвонила, — мне все равно, можешь стреляться… Раймонда, скажи Марии, пусть выдаст Жан-Жану сколько ему нужно… Жан-Жан, Раймонда проводит тебя в контору.
Жан-Жан тяжело опустился на диван, казалось, ноги не держали его больше.
— Сто тысяч… — пробормотал он. В глазах у него стояли слезы. — Женни, что у тебя общего с ними? Война не за горами, ты не представляешь себе, как немцы сильны, они непобедимы… Юдео-марксизм обречен на гибель. Твое место среди нас!
— Бедный мальчик! — Женни стояла, чуть наклонив голову, и пристально смотрела на него. Иной раз она принимает такие позы, что хочется крикнуть: «Только не шевелись!» — хочется запечатлеть в памяти эту гармонию. Женни вышла из комнаты, не попрощавшись с Жан-Жаном. Он вытер пальцы белоснежным платком, два-три раза повернул перстень с печаткой (с каких это пор семья Боргез получила право на герб с короной?) и поднялся.
— Вечно они ссорятся, — заметила Раймонда, — неужели ты не можешь оставить сестру в покое? Жена, что ли, настраивает тебя против Женни? Когда вы были маленькими, Женни не раз задавала тебе взбучку, надо бы тебя еще раз хорошенько отколотить, чтобы ты не приставал к ней… Мало вам тех денег, что вы у нее вытягиваете…
— Ухожу, старушка, ухожу… Извини, Анна-Мария… Ты ничуть не изменилась, все такая же красивая, благоразумная девочка. Позвони нам, жена будет счастлива с тобой познакомиться…
Боже, до чего тяжело!
Когда я вошла к Женни, она ходила из угла в угол и разговаривала сама с собой. Она не обратила на меня внимания, казалось, она репетирует роль. Я забралась с ногами на кресло. Да, по-видимому, новая роль… Слова любви, вечные слова, избитые, но единственные, имеющие право на существование, единственно настоящие, весомые, нужные, нетленные слова. Но вот Женни умолкла.
— Что это?
— Шекспир. По сравнению с ним все остальное — вода… Это самое человечное из всего, что создано… Мне никогда не играть Джульетту на сцене, поэтому я люблю играть ее для себя… Ну как, Анна-Мария, хорош мой братец? Я повсюду твержу, что во всем виновата его жена, но, между нами говоря, с какой женой человек живет — такую и заслуживает. Не знаю, на что пойдут мои деньги, я думала, немцы щедрее. Мария, а она всегда все знает, рассказала мне, что завтракала как-то в Версале с одним из своих поклонников и встретила в ресторане «Трианон» Жан-Жана. Он пришел туда совсем один! Отправиться завтракать в «Трианон» в одиночестве все равно что обедать в смокинге у себя дома, без гостей. У него машина — роскошнейший «мерседес»… Откуда все это берется?
— Насколько я поняла, из государственной казны.
Женни бросилась ко мне, она смеялась, покрывала меня поцелуями…
— Анна-Мария, ты даже себе не представляешь, какая ты забавная! Ты становишься циником! В жизни не видела ничего милее!
Мне с трудом удалось ее утихомирить. Наконец она успокоилась, вытерла выступившие от смеха слезы.
— Но тебя все еще легко поймать на удочку, — сказала она, — ты думаешь, что он растратил казенные деньги, а я не верю. Он придумал эту небылицу, чтобы выудить у меня побольше; должно быть, наобещал — хотел пустить пыль в глаза, а выполнить обещание не сумел. А может быть, действительно прикарманил деньги, да только не служебные. Он настолько же глуп, насколько красив. Братец мой никак не может примириться со своим положением рядового чиновника; честолюбие толкает его бог знает на что… Ты слышала, как он сказал: «Они непобедимы…» Прислуживается к непобедимым!
Но тут уже я не могла следовать за ее мыслью. В разговорах парижан всегда наступает момент, когда я перестаю что-либо понимать. Сидя перед зеркалом, Женни приглаживала волосы щеткой, пудрилась, красила губы… пульверизатор сеял мельчайший ароматный дождь.