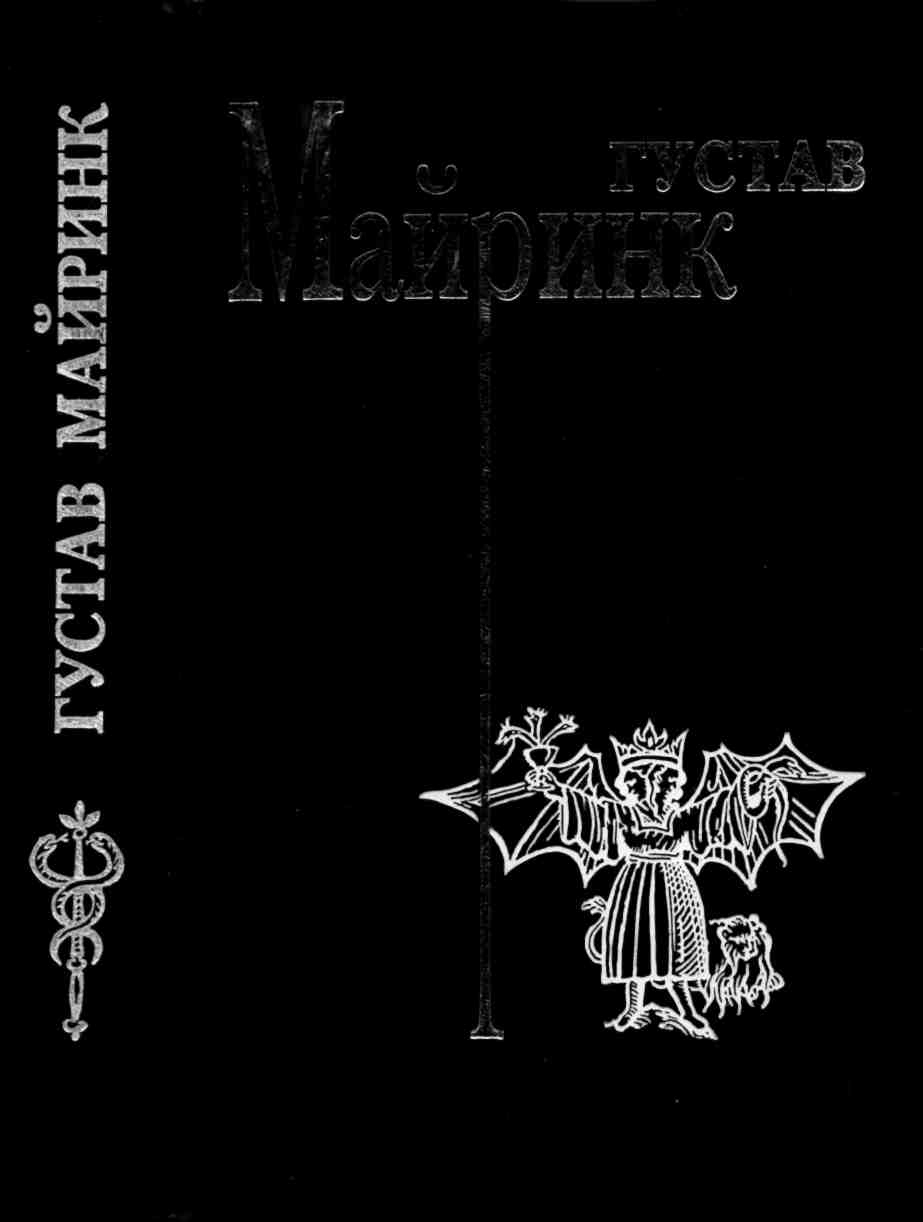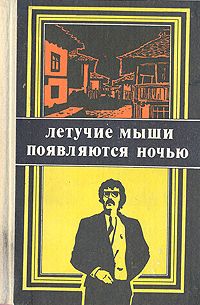что-то может! — это устранить все препоны и препятствия, стоящие на пути ее развития...
Глубочайшей тайной тайн и сокровеннейшей проблемой проблем является алхимическая трансмутация... формы.
И эти слова я обращаю тебе — тому, кто без колебаний предоставил в полное мое распоряжение свою руку, — в благодарность за твой бескорыстный секретарский труд!
Тайный путь к воскресению в духе, о коем сказано в Библии, — это пресуществление тела, а не духа.
Качество формы определяет проявление духа; непрестанно созидает и облагораживает он ее, используя судьбу как свое основное орудие — чем более косна и несовершенна оболочка, тем грубее и примитивнее его откровение; чем она уступчивей и тоньше, тем глубже и многообразнее проявляет он себя.
Трансмутация плоти — это привилегия Бога; дух всего проявленного и непроявленного универсума, Он одухотворяет внешние и внутренние органы до такой степени, что когда на определенном этапе Великого Деяния прачеловек — сокровенная основа основ всякой личности — восстает ото сна и начинает молиться, то молитва сия безглагольная направлена не вовне, а на собственную его пресуществленную форму — член за членом словно четки перебирает он свое обновленное тело, как если бы в каждом из них обитала тайно та или иная божественная ипостась...
Иллюминация формы становится явной внешнему оку лишь в конечной фазе алхимического опуса; в тайное тайных берет свое начало светоносный процесс — в магнетических токах,
которые подобно системе координат определяют структуру человеческой индивидуальности, — далее он распространяется на ментальную область и захватывает психическую: меняется мышление человека, его наклонности, влечения, инстинкты, а там и поведение претерпевает странную метаморфозу, и только потом очередь наконец доходит до бренной оболочки, которая, постепенно преисполняясь сокровенным светом, преображается, как о том сказано в Евангелии [33], в сияющее тело славы.
Представь себе ледяную статую, которая тает изнутри.
Исполнятся сроки, и нерукотворный Храм Ars Sacra восстанет из руин и во всем своем величии откроется взору многих; пока же королевское искусство почиет, уподобившись бездыханному трупу, и его живописные развалины можно теперь встретить разве что в Индии, если внимательно присмотреться к давно уже ставшим мертвой рутиной кунштюкам тамошних факиров.
Итак, как я уже говорил, неуловимая, подспудно трансформирующая мое природное естество магическая инспирация потустороннего патриарха мало-помалу превратила меня в холодный бесчувственный автомат, каковым мне и суждено было оставаться вплоть до благословенного дня окончательного «разрешения от тела».
Ну, а если у тебя, мой верный помощник, есть желание составить более полное впечатление о тогдашнем моем образе, представь заброшенную голубятню — день и ночь в нее влетают, день и ночь из нее вылетают бездомные перелетные птицы, а она лишь безучастно наблюдает за сменой своих пернатых постояльцев; вот только не пытайся мерить привычной тебе человеческой мерой одиночество этого повисшего меж небом и землей сиротского приюта — ничего не выйдет, масштаб не тот...
С недавних пор по городу стали ходить упорные слухи, что гробовых дел мастер Мутшелькнаус сошел с ума.
Правда это или нет, а забот у госпожи Аглаи явно поприбавилось. Вот она в простеньком, не первой свежести платье, которое день ото дня становится все более заношенным, с утра
пораньше спешит, семеня своими миниатюрными ножками, обутыми в стоптанные туфли, на рынок за покупками — ничего не поделаешь, прислуга покинула их дом. Время от времени несчастная женщина останавливается посреди улицы и с потерянным видом, раскачивая из стороны в сторону свою крохотную корзинку, принимается вполголоса разговаривать сама с собой.
При встречах со мной смотрит мимо, а может, она меня уже не узнает? Всем, кто ее спрашивает о дочери, отвечает коротко и ворчливо: Офелия в Америке.
Кончилось лето, а там и осень и зима, но гробовщика я так ни разу и не встретил. Сколько же лет прошло с той роковой ночи, когда мы с ним виделись в последний раз — или время и вправду умерло, а может, это просто зима показалась мне такой бесконечно долгой?..
Однако сейчас — и уж в этом-то я уверен — по всем приметам весна: от хмельного аромата цветущих растений голова идет кругом, после грозы дорожки в садах и парках усыпаны живыми благоухающими снежинками, молоденькие девушки приоделись в нарядные белые платья и вплели в волосы полевые цветы.
И все кругом звенит, стрекочет и поет...
Ветви дикой розы свисают с пристани до самой воды, и речной поток, весенний, игривый, озорной, сначала как бы нехотя волочит нежную, бледно-розовую пену лепестков вдоль замшелых каменных плит пристани, а потом, подхватив и закружив в своих объятиях, выносит к мосту и, словно потешаясь, рядит древние, морщинистые, потемневшие от времени бревенчатые опоры в подвенечное платье.
Газон в соседнем саду переливается чистейшей воды изумрудом.
Последние дни, приходя на заветное место, я стал обнаруживать какие-то загадочные следы, казалось бы оставленные игравшим ребенком: это мог быть крестик или кружочек, старательно выложенный камешками на сиденье скамейки, а могли быть и лилии, белые, печальные, словно по рассеянности рассыпанные по песку, но что странно — как раз над могилой Офелии...
И вот однажды я наконец повстречался с неуловимым хозяином «Последнего пристанища»; старый гробовщик ковылял по проходу со стороны сада, и мне вдруг с какой-то поразительной очевидностью стало понятно: ну конечно же, это он сменял меня на моем скорбном посту, и все эти крестики-нолики его
рук дело! Вежливо приветствовал я отца моей Офелии, однако он, казалось, меня не заметил, хотя в узкой щели прохода, где двум средней комплекции людям едва-едва хватало места, чтобы разминуться, мы с ним разве что носами не потерлись.
Блаженно улыбаясь, старик с отсутствующим видом смотрел куда-то поверх моей головы...
Через несколько дней мы встретились снова, на этот раз в саду... Молча уселся он рядом и принялся буква за буквой выводить своей тростью на мокром песке то единственное имя, которое умел писать.
Так мы сидели довольно долго; смущенный странным поведением гробовщика, я никак не мог собраться с мыслями, и вдруг он начал что-то тихо бормотать себе под нос — не то с самим собой разговаривал, не то с кем-то невидимым. Мало-помалу я стал разбирать слова:
— Это хорошо... Ох, как хорошо!.. Выходит, только я и ты... Только ты и я... И кроме нас, ни одна живая душа — слава в вышних Богу! — ни сном ни духом о сей скамейке.
Я удивленно навострил уши: Мутшелькнаус обращался ко мне на ты?..
Уж не перепутал ли он меня