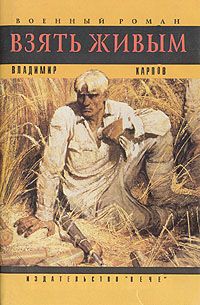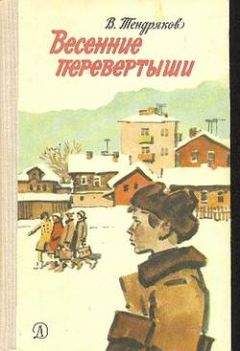нему в подъезд и рассмеялись.
— Нам все равно нечего терять,— беззаботно объяснил Сосновский и показал суковатой тростью на косматое, дымчатое небо.— Содом и Гоморра. Видите, как лупит. Погода и та стала переменчивой и необычной, будто стряслось что-то.
— Пишут, это от солнечной активности.
— Отличная причина!
— А что вы думаете.
— Может быть, эта активность как-то и на людей влияет. Честное слово, смотрю и не узнаю некоторых. Димина, скажем, расцвела прямо. А в литейном…
— Тельферистки жалуются,— почему-то сразу становясь колючей, вставила Лёдя,— голова болит от вашего висмута.
— Это частности, Лёдя. Хуже, когда она кругом от мыслей идет. А делу от этих мыслей не становится легче. Думаешь одно, делаешь второе, получается третье… Слыхала, разумеется, афоризм — благими намерениями дорога в ад вымощена. Вот что действительно страшно…
Сосновский хотел сказать это беззаботно, но слова прозвучали грустно, почти печально. Перехватив испытующий взгляд Михала, он снял шляпу, придававшую ему потешный вид, и перевел разговор.
— А мы, Сергеевич, от Комлика. Представляете, он там свой сад срубил.
Михал недоверчиво взглянул на главного инженера.
— Серьезно! Чтобы никому не достался,— подтвердил тот.
— Пускай бы лучше у него руки отсохли,— сказала Лёдя.
Сняв пиджак, Михал накинул его на плечи дочери.
— Смотри не простудись,— забеспокоился он.— А с Комликом мы тоже не доглядели. Убеждали, наказывали, а чтобы в работу впрячь — нет. В коммунизм, дочка, приходится входить с людьми, которым еще расти да расти.
— Да-а, коммунизм… — как бы веря и не веря, протянул Сосновский.— Это, конечно, прекрасно!..
— А ливень, ливень! — с восхищением воскликнула Лёдя.
— Как там, любопытно, Соня и Леночка в лагере? Скорее всего тоже под дождь попали. Рады-радешеньки, наверное.
Дождь кончился внезапно, как и начался. Его уже не было, а с балконов еще текли струи, из водосточных труб с переплеском и шумом рвалась вода, по тротуарам и обочинам улицы бежали ручьи.
— До свидания,— попрощался с Сосновским Михал и, обняв Лёдю, вышел из подъезда.— Ты на меня, дочка, не больно сердись. Видно, старое отрыгается, даже когда за новое хочешь бороться… И не думай, я не добиваюсь, чтобы ты отдавала мне то, что я дал тебе. Но хочется, шибко хочется, чтобы, когда будешь передавать свое детям, передала и моего чуточку. У нас с тобой, Ледок, особая ответственность… Вот достанется нам от матери!
Улица ожила. Троллейбусы и автомашины, нагоняя потерянное время, помчались быстрее. А возможно, это только сдавалось потому, что из-под шин вырывались длинные, стремительные брызги, да и шорох шин об асфальт стал более зычным.
На тротуары высыпали люди. Только бульвар был еще пуст. Липы отряхивали с себя крупные, тяжелые капли.
Лёдя доверчиво льнула к отцу. Раньше она хорошо знала лишь материнские ласки. К ним привыкла, их желала. Отец же как бы стоял вдалеке — чуть замкнутый, сдержанный, менее понятный. А вот теперь Лёдя чувствовала, как обожает его и как дорога ему сама. На ней был отцовский пиджак, плечи обнимала его сильная рука, и все ее существо переполнялось любовью. Ощущение единства с ним было настолько сильным, что Лёде казалось: она уже жила когда-то и жила именно его жизнью.
Михал понимал это и старался идти в ногу. Исподволь его охватывали новые заботы. У него не было расписания, когда он, как депутат, принимал посетителей. Но само собой сложилось так, что к нему шли по воскресеньям, просто домой. Вот и сегодня придут, конечно,— с жалобами, просьбами. предложениями. Нужно будет выслушать, рассудить, помочь. Потом доведется сесть кончать воспоминания для Истпарта, а под вечер сходить к Комликам. Как-то там у них?
А вымытая ливнем улица сверкала, будто новая. И там, куда убегало шоссе, над зелеными холмами, огромной аркой поднималась радуга.
Перевод с белорусского автора.
Художник В. Дементьев.
Минск
1957—1960 гг.