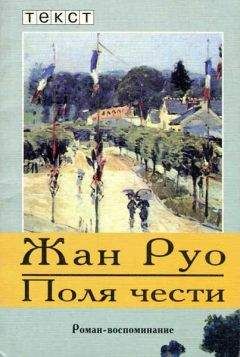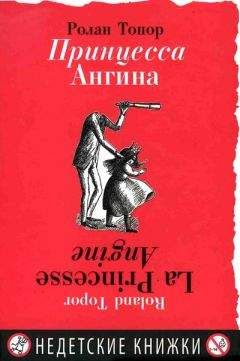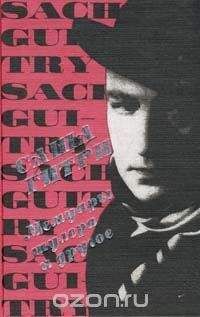Разрозненные воспоминания
Тут мне вдруг ни с того ни с сего вспомнилось, что были у нас и воскресенья, случались каникулы, были и выходы в свет.
Как же проводили мы свои выходные, мы, актёрские дети, конечно, когда нас не лишали этого удовольствия? По правде сказать, совсем не так, как другие дети. Поджидали ли нас у порога родители, чтобы повести на прогулку, предвкушали ли мы с радостью, как пойдём вместе с ними в зоопарк, ботанический сад или в цирк? Ничего подобного у нас и близко не было. По выходным наши родители давали по два спектакля в день, утром и вечером, и если мы отправлялись в театр, то обычно всё время проводили за кулисами театров, где они играли.
Наша мать после развода стала актрисой. Составив себе псевдоним из половины своей девичьей фамилии и половины фамилии отца, она стала известна в театральном мире под именем мадам де Понтри.
Вот как проходили наши выходные.
Поутру — когда нам не случалось оказаться там с вечера — мы являлись к нашей матушке, нас наряжали, и к полудню мы отправлялись «поцеловать мадам Сару».
«Поцеловать мадам Сару» мы являлись каждое воскресенье в течение десяти лет, как другие ходят к мессе — с непритворным благоговением.
Она была для нас существом и сказочно-неземным, и в то же время родным и привычным. Мы всегда входили к ней с букетиками роз или фиалок в руках. Мы, конечно, знали, что она не королева, но чувствовали, что она будто на троне, выше всех остальных.
Выйдя от неё, мы отправлялись завтракать к отцу. Сразу после завтрака снова встречались с матушкой и шли смотреть — неизменно из-за кулис, — как она играет в театре «Шатле» или где-нибудь ещё. Я говорю «где-нибудь ещё», потому что знаю, играла она не только в «Шатле», но, по правде сказать, помню её игру только в «Шатле», в пьесе «Мишель Строгофф». И я так часто видел её в этой пьесе, что у меня осталось впечатление, будто она больше десяти лет только в этом «Мишеле Строгофф» и играла! Впрочем, может, она и вправду играла это больше десяти лет? А вдруг они каждый год возобновляли эту пьесу на время всяких праздников? Похоже, так оно и было.
В таком случае, я должен был бы знать пьесу «Мишель Строгофф» назубок и во всех подробностях. Но увы, на самом деле не могу этим похвастаться, ибо так и не понял, в чём там было дело.
И вот по какой причине.
Мари Лоран, эта выдающаяся, красивая актриса, играла роль Марфы Строгофф, а матушка моя играла Сангар, злую женщину, подлую советчицу эмира Феофара. Так вот, время от времени Мари Лоран, которой в ту пору было восемьдесят лет, заменяла моя мать. А роль матушки в те дни, естественно, играла другая актриса — и я, само собой, уже совсем ничего не мог понять из этой пьесы!
Обедали мы по воскресеньям у бабушки со стороны отца, а вечер проводили за кулисами театра «Ренессанс», где играл наш папа.
Едва оказавшись в театре, мы снова отправлялись «поцеловать мадам Сару».
Решительно мадам Сара играла огромную роль в нашей жизни. После отца и матери она, вне всякого сомнения, была для нас самым важным человеком на свете — и это ей мы всегда в первую очередь наносили визиты на Рождество, Новый год и на Пасху.
Ах, какие рождественские ёлки были у мадам Сары! Это было настоящее чудо! Посреди студии возвышалась огромная ёлка, её освещала тысяча свечек, а на ветках висело пятьдесят игрушек, ведь в тот день нас было пятьдесят, приглашённых детей. Каждая игрушка была пронумерована, и когда наступал момент раздачи подарков, мадам Сара протягивала нам большой бархатный мешок, из которого каждый из детей вытаскивал номер — наудачу. Однако удача в её доме распоряжалась настолько удачно, что самая красивая игрушка неизменно попадала в руки дочурки её сына. Нарядная как принцесса из сказки, обожаемая и лелеемая всеми, Симона Бернар казалась нам волшебным существом, совсем из другого теста, чем все остальные дети. Так что мы считали вполне естественным, что она получала игрушку красивей наших, и даже сознавали, что в сущности все мы, пять десятков детишек, оказались здесь лишь для того, чтобы видеть её счастливой, самой счастливой, счастливейшей из всех детей на свете.
Поймите меня хорошенько: я так любил мадам Сару в детстве, так восхищался ею, питал к ней столько уважения и столь глубокую нежность, когда стал постарше, что всякая критика в её адрес всегда была мне крайне не по душе. Когда с юмором рассказывают о её жизни, как это сделал недавно Рейнальдо Хан, это ещё куда ни шло. Когда шутливо, со всеми подробностями — как сделал это в своём прелестном «Дневнике» Жюль Ренар — описывают её дом, её застолья, её удивительные приёмы, её причуды, её экстравагантные выходки, её несправедливые поступки, её сногсшибательные выдумки — что ж, каждый имеет право писать, как видит, и я первый готов смеяться этим шуткам. Когда — как это с таким юмором и тактом умел делать мой отец, рассказывают всякие забавные театральные байки, которые показывают эксцентричность её характера и неизменность таланта — разумеется, мне это по вкусу, я за. Но когда Сару Бернар смеют сравнивать с другими актрисами, когда ставят под сомнение её дарование или хулят — это не просто кажется мне чудовищным святотатством, я просто не в состоянии терпеть этакое безобразие.
Жюль Ренар писал: «Мне скучно читать тех, кто не любит Виктора Гюго, пусть даже они и не говорят об этом прямо». Я обожаю это замечание, и чувствую то же самое в отношении иных молодых актёров, которые с неподдельным волнением задают себе дурацкий вопрос, а «что было бы», вернись сегодня на подмостки Сара Бернар! Они считают, будто Сара Бернар — актриса «своего» времени. Надо же быть такими глупцами! Им ведь невдомёк, что, вернись нынче Сара Бернар, она стала бы актрисой «их» времени.
Есть в Искусстве категория неземных радостей, столь глубоких и столь возвышенных, что мы навеки обязаны за них той или тому, кто нам их подарил.
Не знаю, было ли во мне изначально заложено чувство семьи, но вынужден признаться, оно явно не получило должного развития. И тут нет моей вины. Каждый из нас принадлежит двум семействам, одно со стороны матери, другое со стороны отца, но, когда эти два семейства разъединены разводом, всё, что слышишь в одном по поводу другого, весьма мало способствует зарождению этого семейного чувства, по идее сотканного из нежности и уважения.
Своего деда со стороны отца я не знал — или, если и знал, во всяком случае, не сохранил о нём ни малейших воспоминаний, ведь, когда он умер, мне было всего пять или шесть лет от роду. Правда, отец иногда рассказывал о нём. Но никогда не говорил о нём подолгу. Он говорил о нём всего пару-тройку слов, откуда я сделал вывод, что, должно быть, дед мой был весьма немногословен.
О бабушке со стороны матери у меня сохранились довольно смутные воспоминания. Говорили, что она была сама кротость и исполнена здравого смысла. Всякий раз, вспоминая о ней, мой дед говорил: «Моя бедная Луиза...», что давало мне основание думать, что, должно быть, он не сделал её слишком счастливой.
Лучше, хоть и не могу сказать, чтобы по-настоящему хорошо, знал я свою бабушку с отцовской стороны.
В глазах двенадцатилетнего мальчика, каким был я в ту пору, это была тучная, немощная, с трудом передвигающаяся старая дама, чья тяжеловесная важность явно внушала нам куда больше страха с примесью изумления, чем нежности.
Мы с братом наносили ей визиты каждое воскресенье, в конце дня. Нас там уже поджидали два стула, придвинутые к карточному столику, за которым наша бабушка раскладывала бесчисленные пасьянсы. Она как на троне восседала в своём кресле, с самого утра разодетая к вечерней трапезе, и чтобы мы, упаси Бог, не сбили её кружевную наколку, нас обучили искусству осторожно подставлять ей под поцелуй свои безразличные лбы.
Она задавала нам пять-шесть вопросов насчёт состояния нашего обучения, после чего мы, откланявшись, довольно быстро удалялись.
Было такое впечатление, будто между нею и нами существовал какой-то негласный уговор. Да-да, всё проходило так, как если бы однажды она сказала нам: «Послушайте, внучата, ваши воскресные визиты ничуть не развлекают меня и ещё меньше забавляют вас, поэтому, если вы не против, сделаем их как можно короче!»
Впрочем, эти дневные визиты были делом чисто протокольным, ведь каждое воскресенье мы ужинали в её доме. Стало быть, к семи вечера мы снова возвращались туда. Всё семейство собиралось вокруг неё, и её переход из гостиной в столовую был не лишён известной помпезности. На самом деле просто она передвигалась с большим трудом, что и производило на нас впечатление какой-то торжественности. Её старший сын, наш дядя Эдмон подавал ей руку, она опиралась на неё, и три десятка шагов, которые ей надо было сделать, чтобы пересесть из одного кресла в другое, занимали у неё добрых пять минут. Пять минут, в течение которых мы хранили молчание, почтительно не сводя с неё глаз.