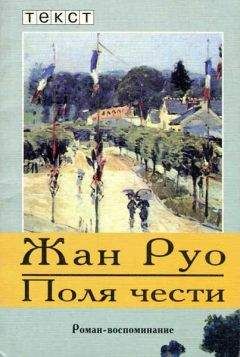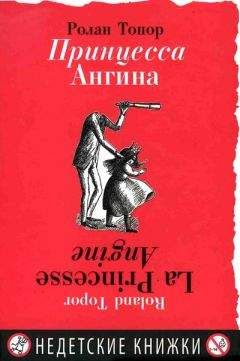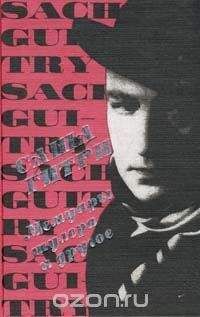Так что с самого раннего детства уверенные, что дед наш выдумывает всё, что бы ни рассказывал, и не говорит ни слова правды, мы в конце концов уже нисколько не сомневались, что его романы писал не он, что у него вовсе не столько наград, как он говорит, что он не дрался одиннадцать раз ни на каких дуэлях, что никакой он не бонапартист и не роялист, что не было у него никакой концессии от французской Индии на Выставке 1900 года и что даже морским офицером-то он тоже не был. Да-да, так оно и было, мы дошли до того, что ставили под сомнение всё, что касалось нашего деда.
И вот как раз сегодня, 6 апреля 1934 года, я для очистки совести решил порыться в сундуке, куда больше тридцати лет назад не глядя свалил в кучу немыслимое количество всяких семейных бумаг. И без особого труда, хоть и не без волнения, обнаружил, что всё, о чём говорил нам дедушка, чистая правда: концессия французской Индии, дуэли — в общем, всё. И когда адмирал Буе-Вилломез попросил у адмирала Потюо орден Почётного легиона для Рене де Пон-Жеста, он сделал это «не только признавая услуги, оказанные Балтийской эскадре» в то время, когда он ей командовал, но и за то, что он «первым подал идею обеспечить оборону Парижа с помощью военно-морских сил».
Перебирая эти пожелтевшие страницы, я наткнулся на настоящий кладезь документов, касающихся возможного возврата монархии. У меня даже создалось впечатление, будто дед мой всё время колебался между принцем Виктором и герцогом Орлеанским, и я уж было совсем пришёл к выводу, что его политические взгляды страдали известным непостоянством. Пока мне не пришла в голову идея совершенно противоположного свойства: вряд ли можно было в более чёткой, более беспристрастной манере заявить, что ты не республиканец.
Мне часто приходилось слышать, что некоторые болезни, как и физические изъяны, «перепрыгивают» через поколение. И я склонен этому верить. А с тех пор как перебираю дедовы бумаги, готов пойти даже дальше. Да, сегодня я уверен, что склонностью перепрыгивать через поколение отличаются не только недуги, но также всякие недостатки и причуды.
Я знал, что Рене де Пон-Жест был игроком, я даже знал, что все вечера, а частенько и ночи напролёт, он проводил в Клубе журналистов, знал, что пристрастие к азартным играм его и погубило, и знаю, как он умер. Но я не знал, у меня и в мыслях не было, что он установил — и это подтверждено множеством самых веских свидетельств ― нечто вроде постоянной суммы Даламбера применительно к номерам по соседству с зеро, с помощью которой он, похоже, в один прекрасный день намеревался сорвать банк в Монако. И я тоже, вот уже два десятка лет играя в рулетку, ни разу не делал ставок ни на что, кроме соседей зеро — система, должен согласиться, не безгрешная, но с помощью которой я всё ещё не теряю надежды в один прекрасный день выиграть люстры и ковёр Казино!
Однажды летним вечером мы с дедом возвращались пешком по улице Руаяль.
На углу улицы предместья Сент-Оноре слепой, усевшись на раскладном стульчике, просил милостыню. Дедуля порылся в кармане и протянул мне четыре су.
— На-ка, подай этому несчастному.
Кидаю четыре су в шляпу нищего и возвращаюсь к деду. Мы делаем несколько шагов, потом он говорит:
— Тебе бы следовало с ним раскланяться.
— С кем, с этим беднягой?
— Ну да!
— Почему?
— Потому что всегда надо кланяться бедным, когда подаешь им милостыню.
— Ну уж только не с этим... — нашёлся тут я, — он же слепой.
Ответ мой был отнюдь не глуп, но у деда всегда на всё имелся ответ, и то, что он возразил мне в тот день, показалось мне весьма знаменательным. Он сказал:
— А вдруг он только притворяется слепым?
Мне было тринадцать.
Она была восхитительна.
Да что я говорю, восхитительна: это была одна из самых очаровательных женщин Парижа. Но этого я тогда ещё не понимал. Она «казалась» мне красивой, а оказалось, что она и вправду была на редкость хороша собой. Это не более чем совпадение.
Она была дочерью знаменитого художника и вышла замуж за одного из самых преуспевающих писателей. Он был близким другом отца, а позже стал и моим. В ту пору я дружил с их сыном. Почти каждое воскресенье я захаживал к ним днём перекусить. Кстати, семейство это было прямо-таки образцом счастья, и все там были красивы.
У неё была прелестная улыбка и ласковые глаза.
Ну мог ли я не поддаться этаким чарам?
И есть ли смысл задаваться вопросом, почему я в неё влюбился?
Вот останься я равнодушным, это было бы с моей стороны чудовищным, преступным — внушало бы тревогу. Я был не просто вправе, я был обязан любить её — разве в тринадцать лет знаешь, что такое любовь...
Я мечтал о любви...
Признаться ей?
Нет, легче умереть!
Что же делать?
Доказать!
Накопить за неделю денег, а в следующее воскресенье совершить какое-нибудь безрассудство. Денег я накопил, и безрассудство тоже совершил. Восемь франков: огромный букет фиалок. Он был просто великолепен! Это был самый прекрасный букет фиалок, какой когда-либо существовал на свете. Мне пришлось держать его обеими руками, такой он был огромный.
Мой план: явиться к ней в два часа и вместо того, чтобы сразу отправиться в детскую, попроситься с визитом к ней.
Поначалу всё сложилось не совсем гладко. Она оказалась занята. Я не сдавался. И горничная провела меня к ней в будуар.
Она причёсывалась, готовясь куда-то выйти. Я вошёл с бьющимся сердцем.
— Здравствуй, малыш. Почему ты хотел меня видеть?
Она ещё не обернулась. Она ещё не видела букета: она ещё не могла понять.
— Вот почему, мадам...
И я протянул ей мои восемь франков фиалок.
— О, какие прелестные цветы! — восхитилась она.
Мне показалось, что партия выиграна. Весь дрожа, я подошёл к ней поближе. Она обхватила руками мой букет, точно голову ребёнка, и поднесла к своему прелестному личику, будто собиралась поцеловать.
— И как восхитительно пахнут!
Потом, давая мне понять, что аудиенция окончена, добавила:
— Передай от меня большое спасибо своему отцу.
Меня представили Муне-Сюлли
Это было в театре «Порт-Сен-Мартен». Мой отец играл в «Западне», и в антракте я зашёл к нему в артистическую как раз в тот момент, когда Муне-Сюлли, зритель в тот вечер, заглянул перекинуться с ним словечком. Думаю, в ту пору мне было лет пятнадцать, и я впервые видел Муне-Сюлли не на сцене. Он произвёл на меня огромное впечатление. Он был красив, у него была обворожительная улыбка, и когда он говорил вполголоса, у него в груди словно гром далёкий громыхал, будто очень издали. Слов нет, он был очень хорош собой, однако — увы! — бедные глаза его уже весьма плохо видели, так что никогда нельзя было с уверенностью утверждать, не смотрит ли он на вас в упор, когда повёрнут к вам в профиль.
Отец представил меня ему в следующих выражениях:
— Мой дорогой Муне, это мой сын Саша, ваш будущий ученик.
Это была привычка, которую взял мой отец, представляя меня таким манером всем знаменитым актёрам, французским или иностранным.
Муне-Сюлли, который всё принимал всерьёз и, явно желая продемонстрировать мне своё расположение, знакомым царственным жестом раскрыл объятья и раскатистым, оглушительным голосом, как если бы я находился метрах в пятидесяти от него и был отделён от него бурлящей рекою, протрубил:
— Идите!.. Идите!.. Идите же ко мне, дитя моё... и позвольте от всей души расцеловать вас!
Впрочем, любое сопротивление с моей стороны всё равно не имело бы никакого успеха, ибо он тут же правой рукой обхватил меня за шею, притянул к себе — и я до конца жизни не забуду горячего поцелуя, что он запечатлел у меня на лбу.
После чего возобновил разговор с отцом, прерванный моим появлением. Он говорил о театре «Комеди-Франсез» и о Жюле Кларси, которого он называл «месьё Кларси», так протяжно, с ударением произнося последний слог, что он превращался в некое подобие свиста. Пару минут спустя он раскланялся с отцом, забыл, проходя мимо, попрощаться со мной и направился к двери, которую почтительно растворил перед ним костюмер. Этот костюмер был редкостным коротышкой, носил пышные чёрные усы, и внешне между ним и мной не было ровно никакого сходства. Тем не менее Муне окинул его, если так можно сказать, пристальным взглядом, и воскликнул:
— Ещё раз, дитя моё... позвольте же мне облобызать вас на прощанье!
И Муне запечатлел краткий, но горячий поцелуй на лбу удивлённого и, должно быть, разомлевшего от радости костюмера.
Моё первое любовное похождение
У нас с моим однокашником по коллежу Коленом было примерно лет тридцать и франков пятьдесят на двоих, когда мы с ним решили, что настал день для любовного приключения.