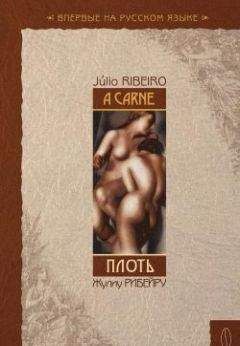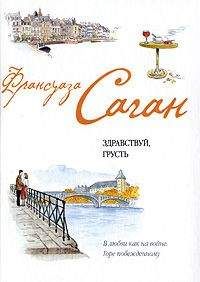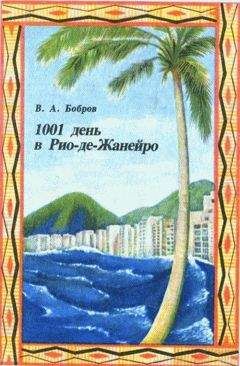Потом он принялся исцелять неофита, делать его тело нечувствительным к физическим наказаниям: велел ему раздеться и встать по-звериному на четвереньки. Бормоча бессвязные слова и бессмысленные фразы, он смазал его прогорклой мазью, хранившейся в ржавой жестянке, и окропил водой из висевшего на стене сосуда. Сказал, что это действо следует совершать каждую пятницу шесть недель кряду, чтобы чары сделались необратимыми, а тело – полностью неуязвимым.
Чтобы наглядно показать свою власть, действенность своих чар, он подозвал худенькую негритянку – ту, что пришла первой. Она подошла с довольным и радостным видом.
Произошла ужасающая сцена.
Жоакин Камбинда достал из киота длинную, толстую стальную игру, какою зашивают мешки, и, взяв негритянку за руку, насквозь пронзил ей предплечье в нескольких местах. Не выступило ни единой капельки крови. Негритянка с любопытством глядела на свою руку, не выказывая ни малейшего признака боли.
Жоакин Камбинда отложил иглу, немного отодвинулся, наклонил голову, пристально посмотрел на негритянку исподлобья. Глаза у него блестели, но были неподвижны, как у змеи или ящерицы.
Девушка громко вскрикнула и поднесла обе руки к груди.
–?Давит! Давит! Дышать нечем! – воскликнула она.
С закатившимися глазами и искривившимися губами она рухнула наземь. Все тело у нее извивалось в страшных судорогах.
Руки у нее метались, кулаки сжимались, ногти впивались в ладони; язык высунулся изо рта, по нему стекли потоки пенистой слюны.
Она билась в корчах, точно разрубленная змея.
Вдруг с губ у нее сорвалось сдавленное, гортанное, хриплое рычание, в котором не угадывалось ничего человеческого. Она вздрогнула всем телом, запрокинула голову, прогнулась, словно натянутый лук, и застыла в немыслимой позе, опираясь об землю лбом и кончиками пальцев слегка разведенных ног.
Кулаки у нее оставались сжатыми, а руки вытянутыми вдоль тела. Она закоченела, словно труп или, скорее, мраморная статуя или бронзовое изваяние.
Губы Жоакина Камбинды скривились в зловещей усмешке.
С ловкостью, столь не вяжущейся с его обычной медлительностью – никто и не подозревал в нем такой прыти,– он одним прыжком приблизился к девушке, изогнувшейся и застывшей, точно горбатый мост.
Глаза у него метали молнии, отражавшиеся, казалось, на блестящей черной лысине. Желтые зубы обнажились в дьявольском оскале. Он принялся прыгать, топтать ногами грудь, живот и лобок припадочной.
Та не двигалась, не шевелилась под ударами ног, под тяжестью чудовища – она застыла, словно каменная арка.
Жоакин Камбинда слез с нее, взял стоящий в углу черенок мотыги и стал колотить ее по груди и животу.
Посыпались удары. Звук от них был глухой, едва слышный, как будто пинали мешок с тряпьем.
Внезапно припадок прекратился, и к несчастной вернулась гибкость. Она вновь упала на пол, и все члены у нее расслабились.
По лицу у нее струился пот.
Все присутствующие замерли.
Жуткий распорядитель этих страшных действ быстро задул свечи, затворил киот и снова уселся на чурбан, молча раздувая огонь.
Девушка спала глубоким сном и похрапывала.
На дворе продолжали отплясывать самбу. Слышался грохот барабанов и топот ног. Раздавался звучный, меланхоличный, раздирающий душу припев:
–?Эй, голубка, эй!
Вот уж немало минуло дней, как Барбоза уехал, и за это время написал лишь одно письмо полковнику, где сообщал о своих делах и выражал надежду, что процентов тридцать от убытка все же удастся спасти.
Вначале Ленита каждый день посылала негритенка в город за почтой. Поджидала его в дверях задолго до возвращения. Когда на вершине холма возникала его фигурка в белой хлопковой рубашке, трясущаяся на старом сером ослике, выделяющаяся бледным, подвижным пятном на матовой желтизне дороги, она мчалась к воротам встречать его.
Дрожащей рукой хватала она кожаную сумку для корреспонденции, открывала ее и, поскольку оттуда сыпались одни газеты, она тревожным, пресекающимся голосом спрашивала, лелея остатки надежды:
–?А письма-то где?
Неописуемым бывало ее разочарование и даже гнев, когда негритенок нежным, певучим, но совершенно безучастным голосом отвечал:
–?Писем нет.
В конце концов, ей это надоело. Больше она не посылала мальчишку в город за почтой, а когда он ездил туда сам и привозил газеты, она раздраженно говорила ему:
–?Положи на стол.
И вот однажды, принимая толстую кипу газет «Жорнал ду Комерсиу», она обнаружила объемистое письмо. Кровь прилила ей к сердцу, как только она узнала почерк Барбозы на конверте из веленевой бумаги:
Милостивой Государыне
Сеньоре Доне Элене Матозу.
Город ***, провинция Сан-Паулу.
Резким движением выхватила она письмо из рук у негритенка, уронив наземь газеты и не потрудившись их поднять. Уединившись в спальне, она крепко прижала письмо к сердцу.
Она заперлась на ключ и прикрыла окна, оставив столько света, сколько необходимо было для чтения. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел ее или потревожил.
Дрожащими руками она в каком-то исступлении, чуть ли не в ожесточении разорвала конверт.
Письмо состояло из многих страниц тончайшей бумаги – pelure d’oignon,– с обеих сторон исписанных каллиграфическим почерком и аккуратно пронумерованных.
Ленита стала читать:
Сантус, 22 января 1887 г.
Милая моя единомышленница!
Впервые в жизни довелось мне побывать в морском порту нашей провинции – в Сантусе. Места здесь жаркие, влажные, удушливые, очаровавшие, однако, Мартина Афонсу, который предпочел этот край пленительному заливу Гуанабара. Преподобные Киддер и Флетчер, опубликовав книгу о Бразилии, пришли в ярость, узнав о причинах такого обожания, и... признались в собственном невежестве. Со мною происходит то же самое. Действительно, почему Мартин Афонсу вообразил, что здесь лучше, чем в Рио-де-Жанейро? Казалось, все должно было быть наоборот. Какое гениальное озарение, какой удивительный внутренний голос поведал португальскому колонизатору о несомненном превосходстве этого края, где преобладает чернозем и где климат идеален для земледелия, над прибрежным пограничьем, где краснозем засушлив и бесплоден? Видимой причины здесь нет, нет и никаких разумных доводов – это было просто предпочтение, то самое, что создало первую провинцию Бразилии и, быть может, первое из свободных государств в мире.
Я не располагаю всеми необходимыми данными, но постараюсь представить, как изменится климат на этой прибрежной полосе. Нужно найти, с чем ее сравнить.
О Сенегале говорят, что там жарче, чем у нас, но не такая духота. Воздух там – как огонь, но дышать можно. Здесь дышать вообще нечем. Воздух тяжелый, маслянистый; кажется, что в нем чего-то недостает – но лишь тогда, когда не дует мощный ветер, который местные жители именуют норд-вест: когда он поднимается, когда воцаряется этот африканский самум, этот злобный ураган, Сантус становится подобием ада – представьте себе тайфун, поднявшийся в печи.
Дни здесь ужасны: если не идет дождь, что случается редко, то солнце печет и земля раскалена так, что на мостовой можно жарить яичницу. Однако ночи еще ужаснее, чем дни. Атмосфера становится безжизненной. Неподвижны вымпелы кораблей; неподвижны купы деревьев; неподвижны листья пальм. Люди, задыхающиеся в этом мертвом воздухе, напоминают мамонтов, которых и сейчас еще находят в вечной мерзлоте Сибири, или насекомых, застывших несколько тысяч лет назад в золотисто-желтом янтаре. Печальная картина приводит в отчаяние, лишает мужества, доводит до слез и напоминает ужасы из стихотворения Байрона «Тьма».
Здесь жизнь – это полное отрицание физиологии, это поистине чудо: нет полноценного кровообразования, пищеварение затруднено, испарина – как на второй стадии легочного туберкулеза или при перемежающейся лихорадке. Если бы меня приговорили к ссылке в Сантус – не то что к пожизненной, а хотя бы на год-другой,– я бы точно наложил на себя руки.
Зато какая здесь рыба! Какие чудесные моллюски! Какой вкусный желтый мерлан! Какой божественный окунь! Во Франции я ел канкальских, мереннских и остендских устриц; ел средиземноморскую розовую устрицу, корсиканскую пластинчатую устрицу; но ни одна из них не может сравниться с устрицей, которую ловят в Сантусе. Нежная, мягкая, необыкновенно вкусная, бледно-зеленая, столь ценимая утонченными гурманами. Мокэн Тандон, Валенсьен, Бору де Сен-Висан, Тэйон, Пристли, Бертло разработали множество фантастических теорий, чтобы объяснить этот феномен,– и все же, скорее всего, это симптом болезни, нездоровое состояние, водянка, которой страдает моллюск.
Насколько отвратительны почва и климат в Сантусе, настолько восхитительна рыба, а тем более человек: плохие условия дают хорошие результаты. Парадоксально, но факт – никуда от этого не денешься.