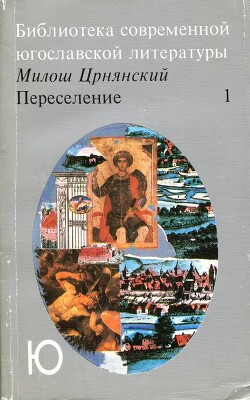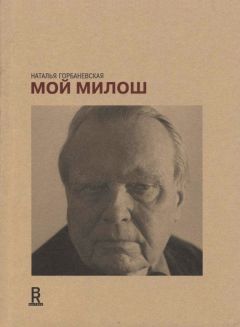Ах, Вы помните, какими мы были смешными?
Все мы были очень образованные. И все мы были не выспавшиеся, бледные, взлохмаченные. Мы тихо снимали шляпы и входили, и каждый приветствовал присутствующих по-своему.
И когда из-под шляп вылетали наши длинные черные волосы, слышалось: «народная песня, господа», «прерафаэлизм, господа», «синдикализм, господа», «одолжите мне одну крону, господа». У каждого было свое приветствие. Но мы очень любили друг друга, и мы были ничуть не более безумными, чем другие. По вечерам мы ужинали черным кофе с булочкой.
Люди равнодушно проходили мимо нашей толпы, стоявшей каждый вечер у Оперы. И каждый вечер мы говорили о России. Мы все помногу говорили.
Я помню одного, молчавшего. Помните ли, дорогой мой, его тень на белой занавеске, склоненную над микроскопом под чердаком, на которую мы подолгу смотрели, когда на утренней заре возвращались домой.
Он умер. Говорят, часто голодал.
На родине нас ненавидели, но все-таки не мы были худшими.
Мы были просто смешными и юными, ах, такими юными. Мы хотели спасти мир. Помните, какие мы несли глупости. Но все разговоры заканчивались Россией.
Помните того, кто доказывал, что мы самый музыкальный народ, кто кричал: «Открывай окно, я петь буду», и того, что вечно читал стихи о Вуке Мандушиче? [32] Помните, какие у нас были длинные волосы?
Но то, что нас крепче всего соединяло, это бедность и чахотка, они нам были вернее наших подружек, по большей части горничных. Помните, в нашем кружке и ветеринары говорили только о России и об искусстве.
Лежу и вижу только размытые крыши. Сегодня мне два раза делали фотографический снимок легких, и я настроен философически, дорогой мой. А они почти все мертвы. Лежат, лежат себе в земле, одни на юге, другие на севере, иные на востоке, иные на западе. Почему, дорогой мой? Ах, я хочу рассказать тебе сон, один мой сон, и тебя убаюкаю, хотя знаю, что и ты сейчас лежишь где-то и не можешь заснуть. Сегодня мне два раза делали фотографический снимок легких, и потому я сентиментален.
Тогда, однажды вечером, пришел он, я никогда его не забуду. Вскоре он пропал, но все-таки, он был мне больше, чем брат.
Казалось, его длинные и тонкие, как жерди, ноги не ступают по земле, он как будто над ней парил. Он не был в лохмотьях, однако цвет его брюк я так никогда и не угадал. Над ними черный морской китель, на нем одна золотая пуговица — «мое золотое прошлое», — говорил он. Голос у него был невыразительный и мягкий. У него я научился разговаривать искренне. Он подошел к столу и тихо поздоровался: «Полинезия, господа».
Я давно привык ко всем студентам, актрисам и черногорцам, которые дружили с нами. Каких только нас не было. Однако с изумлением обернулся. Я подумал, что это какой-то поэт, потому что мы часто были и поэтами.
Он посмотрел на меня, незнакомого, только на меня посмотрел; а глаза те были светлые, прозрачные, они мне напомнили небо.
Я тихо спросил одного адвоката, сидевшего рядом со мной и все время искавшего связь Душанова «Законника» [33] с какими-то эдиктами: «Кто это?»
«Какой-то далматинский приживал, пройдоха, не давай ему в долг».
У нас ничто не бывало странным. Его костюм меня удивил. Сам он был изнуренным и бледным. Черная шинель, висевшая на его сутулых плечах, была настолько смешна поверх тех выцветших брюк, как будто на веселую летнюю морскую униформу набросили черную, похоронную поповскую рясу.
В ту пору я рассуждал только о коринфских колоннах и о любви к отчизне. Меня удивило его прекрасное лицо, нежное и белое; на нем не было ни одной морщины, ни одной пьяной тени. Он подал мне руку и произнес: «Вы похожи на меня, может быть, и вы путешествуете?.. Прошу вас, одолжите мне…» Его руки дрожали, все в шрамах и ранах, нечистые, они судорожно сжимались в сетке спутанных, узловатых вен. Но волосы его, разделенные пробором, были мягкими и нежными, как старое золото.
Мне говорили, что он бывший морской офицер, и что у него есть связи с московскими студентами, по ночам он пьян, а днем обучает детей английскому и французскому.
Светало, когда мы вышли на улицу. Оборванцы мели и чистили брусчатку и поливали ее водой. Мы любили эти темные, мокрые улицы. Мы знали, что будущее за улицей. Невыспавшиеся и голодные, мы останавливались и долго говорили о мире, о земледельческих кооперативах и славянстве. Я говорил только о Репине. И эти бесконечные разговоры по кафе, доходившие в толпе длинноволосых студентов до диких драк, здесь, на пустых улицах, они текли мягко, и исчезали в мокрых деревьях и черных крышах.
Мы желали доброго утра любому. И только перед восходом Солнца мы входили в уродливые мрачные дома, где селились высоко, высоко.
Той ночью мы долго спорили о Гартвиге, [34] о каком-то немецком броненосце у Агадира, [35] и о какой-то новой прелестнице в одном борделе.
О, мы знали, хорошо знали, что мы несчастны, но с отчаянной радостью говорили о славянстве. Больше всего тем утром нападали на него, потому что он не вмешивался в наши ссоры, и стоял испуганный, прислонившись к фонарному столбу, а фонарь гас, и шептал: «Чего вы еще от меня хотите, я был молод, но и это прошло, чего вы еще хотите?»
Все кричали, оскорбляли и били его, спрашивали у него, он платоник или анархист, или нигилист, кем-то же он должен был быть. А он рассказывал про снег, про птицу, клеста, которая зимой вьет гнездо, про снежные облака, а больше всего про небо. Он все что-то бормотал неразборчиво о небе. Я думал, что и он пьян, потому что все остальные были пьяны. Тогда его прижали к какой-то стеклянной витрине и начали наносить ему удары, а он развел руки в стороны и сказал: «Я суматраист». Помню, это было на заре, небо было темно-зеленым, и была первая апрельская ночь. Потом он сцепился с каким-то жандармом; я его увел, потому что забияка он был изрядный, когда выпьет.
Квартировал он поблизости, и я его проводил. Мы поднялись по лестнице, и я задрожал от холода. Он меня все время обнимал и просил, чтобы я его выслушал; рассказывал что-то о корабле “Kaiserin Elisabeth” в гавани Салоник, и о какой-то пощечине, которую он получил от адмирала, и каком-то дворе в Которской крепости, где его разжаловали и собирались расстрелять.
Но у меня болела