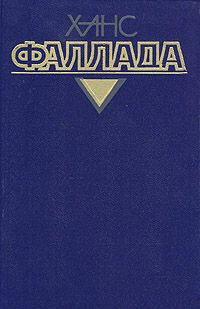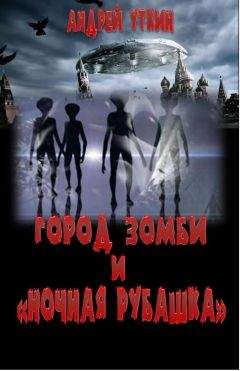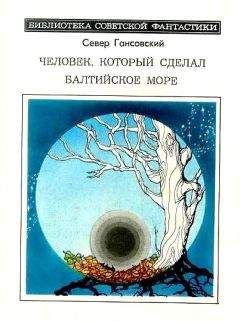— Может быть, я еще отчищу, — задумчиво произносит Овечка. — Есть такие проволочные щетки.
— Все денег стоит, — коротко замечает Пиннеберг. — Подумать страшно, сколько мы за эти дни денег извели. И кастрюли, и проволочные щетки, и обед — да на эти деньги я три недели столоваться бы мог… Ну вот, ты уж и плачешь, а ведь я правду говорю…
Овечка рыдает.
— Я так старалась, дорогой! Только когда я за тебя боюсь, тут мне уж не до обеда. Пришел бы ты хоть на полчаса раньше! Тогда бы мы успели вовремя выключить газ.
— Да-а, — говорит Пиннеберг и закрывает кастрюлю крышкой, — за учение платят. Я, — он решается на героическое признание: — Я тоже иногда ошибаюсь. Из-за этого плакать не стоит… А теперь дай мне чего-нибудь поесть. Я зверски голоден!
У ПИННЕБЕРГА НЕТ НИКАКИХ ПЛАНОВ, И ВСЕ ЖЕ ОН ЕДЕТ НА ПРОГУЛКУ И ПРИВЛЕКАЕТ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ.
Суббота, эта злосчастная суббота тридцатого августа, сияя, встает из темной синевы ночи. За кофе Овечка еще раз повторила:
— Значит, завтра ты свободен. Завтра мы поедем по узкоколейке в Максфельде,
— Завтра дежурит Лаутербах. Завтра мы поедем за город, — соглашается Пиннеберг. — Обещаю тебе.
— Возьмем лодку и поедем через озеро, и дальше вверх по Максе — Овечка смеется. — Господи боже мой, ну и название! Знаешь, мне все кажется, что ты хочешь взять меня на руки.
— Охотно бы. Но мне в контору пора. Пока, старуха!
— Пока, старик!
В конторе к Пиннебергу подошел Лаутербах.
— Слушай, Пиннеберг, у нас завтра вербовочный поход, и мой груф сказал, что я обязан быть. Выдай за меня корм лошадям.
— Очень сожалею, Лаутербах, но завтра никак не могу! В другой раз — пожалуйста!
— Сделай мне одолжение, друг!
— Нет, право, не могу. В другой раз — пожалуйста, но завтра никак не могу! А Шульц?
— Шульц тоже не может. У него там с какой-то девушкой дела из-за алиментов. Ну, очень прошу,
— Завтра не могу.
— Но у тебя же обычно не бывает никаких планов на воскресенье.
— На завтра планы есть.
— Какой ты несговорчивый, ведь у тебя наверняка никаких планов нет.
— На завтра есть.
— Я два воскресенья за тебя отдежурю.
— Нет, не хочу. И отстань. Все равно не сменю.
— Пожалуйста, раз ты такой. Ведь мой груф специально мне наказывал.
Лаутербах до смерти обижен.
Так началась эта суббота. И так пошло дальше.
Два часа спустя Клейнгольц и Пиннеберг остались одни в конторе. Мухи жужжат и звенят совсем по-летнему. У хозяина здорово красное лицо, несомненно он сегодня уже клюкнул и потому в хорошем настроении.
— Подежурьте завтра за Лаутербаха, Пиннеберг, — говорит он миролюбиво. — Он просил отпустить его. Пиннеберг поднимает голову.
— Очень сожалею, господин Клейнгольц. Завтра я не могу. Я уже сказал Лаутербаху.
— А нельзя ваши дела отложить? Ведь у вас никаких серьезных планов нет.
— На этот раз, к сожалению, есть, господин Клейнгольц. Клейнгольц очень внимательно смотрит на своего бухгалтера.
— Послушайте, Пиннеберг, не валяйте дурака. Я Лаутербаха отпустил, не могу же я теперь идти на попятный. Пиннеберг не отвечает.
— Видите ли, Пиннеберг, Лаутербах — дурак. Но он нацист, — по-житейски практически объясняет Эмиль Клейнгольц, — а его группенунтерфюрер — мельник Ротшпрак. Мне с ним отношения портить не хочется, он нас всегда выручает, когда спешно требуется смолоть зерно.
— Но я правда не могу, господин Клейнгольц, — уверяет Пиннеберг.
— Мог бы, конечно, и Шульц заменить, но он тоже не может, — предается бесплодному раздумью Клейнгольц. — Он завтра хоронит родственника, от которого ждет кое-какое наследство. На похоронах ему нужно быть, с этим вы должны согласиться, не то другие родственники все себе заберут.
«Вот сволочь! — думает Пиннеберг. — Он же с бабами путается».
— Все это так, господин Клейнгольц.,. — начинает он. Но Клейнгольц говорит как заведенный.
— Что касается меня, Пиннеберг, я бы охотно подежурил за него, я ведь не такой, сами знаете…
— Да, вы не такой, господин Клейнгольц, — подтверждает Пиннеберг.
— Но, знаете, завтра я тоже не могу. Завтра я должен поездить по деревням, заручиться заказами на клевер. В этом году мы ничего еще не продали.
Он выжидающе смотрит на Пиннеберга,
— В воскресенье я обязательно должен поехать, Пиннеберг, в воскресенье я застану крестьян дома.
Пиннеберг в подтверждение кивает головой.
— А Кубе не мог бы покормить лошадей, господин Клейнгольц?
Клейнгольц возмущен:
— Кубе?! Чтобы я ему ключи доверил? Кубе еще при покойном отце у нас работал, но ключей ему никогда не доверяли. Нет, нет, Пиннеберг, вы сами понимаете, только вы один и можете. Завтра будете дежурить вы.
— Но я не могу, господин Клейнгольц! Клейнгольц поражен.
— Ведь я вам ясно сказал, Пиннеберг, что, кроме вас, все заняты.
— Но я тоже занят, господин. Клейнгольц.
— Господин Пиннеберг, ведь не будете же вы требовать, чтобы я завтра работал за вас просто потому, что вы капризничаете. Какие же у вас планы на завтра?
— Я собирался…— начинает Пиннеберг, — я должен…— прибавляет он. И замолкает, потому что не может так сразу ничего придумать.
— Ну вот, видите! Не могу же я сорвать заказы на клевер только потому, что вы заупрямились! Будьте благоразумны, Пиннеберг.
— Я благоразумен, господин Клейнгольц. Но я никак не могу. Господин Клейнгольц поднимается, пятясь, отступает к двери и не спускает огорченного взгляда со своего бухгалтера.
— Я жестоко в вас разочаровался, господин Пиннеберг, — говорит он, — жестоко разочаровался. И хлопает дверью…
Овечка, конечно, вполне согласна со своим мальчуганом.
— Как это ты решился? А вообще, по-моему, ужасно подло с их стороны так тебя подводить. Я бы на твоем месте сказала хозяину, что Шульц насчет похорон наврал.
— Это было бы не по-товарищески, Овечка. Ей стыдно.
— Нет, конечно, ты совершенно прав. Но Шульцу я бы все высказала. Все начистоту высказала бы.
— Я выскажу, Овечка, выскажу.
И вот они сидят в поезде, который идет в Максфельде. Вагон битком набит, хотя поезд отходит из Духерова в шесть утра. Максфельде, Максзее и река Максе тоже приносят разочарование. Всюду полным-полно народу, шумно и пыльно. Тысячи людей приехали из Плаца, на берегу стоят сотни автомашин и палаток. О лодке и думать нечего, те немногие, что имеются, уже давно разобраны. Пиннеберг и Эмма молодожены, их сердца жаждут уединения. Сутолока ужасает их.
— Ну, так отправимся пешком, — предлагает Пиннеберг. — Здесь ведь повсюду лес, и вода, и горы…
— Но куда?
— А не все. ли равно? Только бы поскорее отсюда. Найдем где-нибудь уединенное местечко.
И они находят такое местечко. Сначала они идут лесной дорожкой, еще довольно широкой, и народу на ней много, но потом Овечка убеждает его, что здесь, в буковом лесу, пахнет грибами, и увлекает его в сторону, они углубляются все дальше в лес и неожиданно оказываются на поляне между двумя лесистыми склонами. Держась за руки, карабкаются они на противоположный склон и попадают на затерянную просеку, которая тянется с холма на холм и уходит все глубже в лес; по ней они и шагают.
Над ними медленно поднималось солнце, издалека, с Балтийского моря, на кроны буков налетал временами ветер, и они чудесно шелестели. Морской ветер веял и в Плаце, где прежде жила Овечка. Это было давно-давно, и она рассказала своему мальчугану про единственное за всю ее жизнь путешествие: про девять дней, проведенных в Верхней Баварии вчетвером с подругами.
И он тоже разговорился и рассказал, что всегда был одинок и что он не любит матери, она никогда о нем не заботилась, у нее вечно были любовники, и он только мешал ей. И профессия у нее ужасная, она… Прошло немало времени, прежде чем он признался, что она барменша.
Овечка призадумалась и даже пожалела о своем письме, потому что барменша — это что-то совсем не то, хотя Овечка не, очень ясно представляла себе, каковы функции барменши, в баре она не была ни разу, а то, что она слышала о такого рода вещах, как ей казалось, совсем не подходящее дело для матери ее Ганнеса, если принять во внимание ее возраст. Словом, пожалуй, лучше было начать письмо с обращения «глубокоуважаемая фрау Пиннеберг». Но говорить об этом сейчас с Ганнесом просто невозможно. Так шли они некоторое время, взявшись за руки. Но как раз, когда молчание уже начало становиться тягостным и грозило отдалить их друг от друга, Овечка сказала:
— Милый, какие мы с тобой счастливые, — и протянула ему губы…
Лес вдруг заметно поредел, и они вышли на огромную вырубку, залитую ярким солнцем. Прямо перед ними был высокий песчаный холм. На его вершине кучка людей возилась с каким-то смешным аппаратом. Вдруг аппарат поднялся и понесся по воздуху.