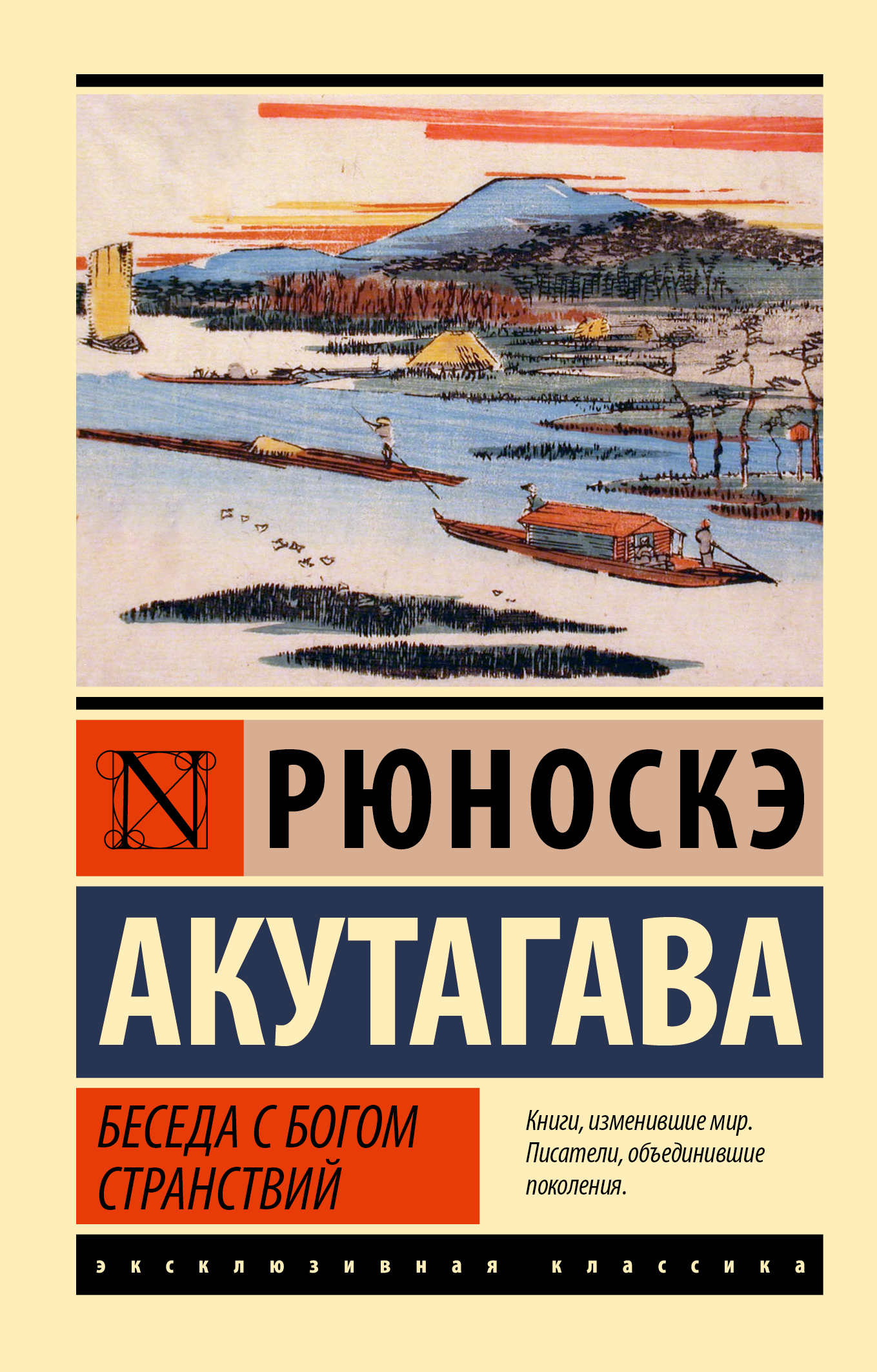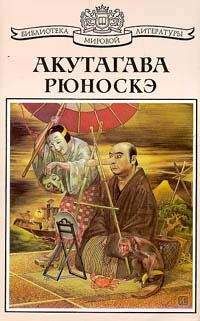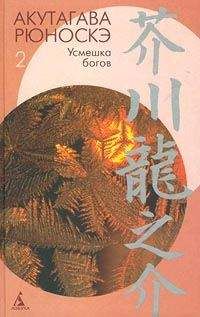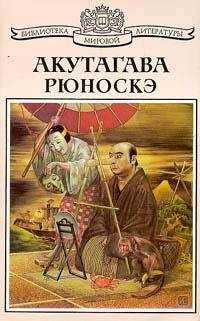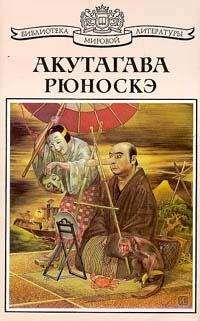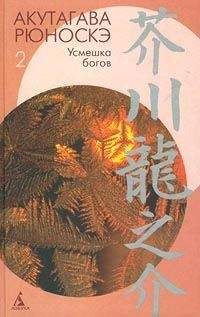не сообщила ему, что обед готов.
X
Покончив с одинокой трапезой, Бакин наконец прошёл к себе в кабинет. Он всё ещё находился в удручённом состоянии и, чтобы развеяться, впервые за много дней открыл «Речные заводи». Открыл наугад, на том месте, где рассказывалось, как Линь Чун – Барсоголовый, – укрывшись вьюжной ночью в храме Горного Духа, смотрит на горящий склад фуража. Чтение этого драматического эпизода, как всегда, увлекло его, однако через несколько страниц он вдруг ощутил непонятную тревогу.
Домочадцы всё ещё не вернулись с богомолья. В доме царила тишина. Попытавшись согнать с лица унылое выражение, он без удовольствия закурил и, не выпуская из рук открытой книги, принялся размышлять над вопросом, который с давних пор не давал ему покоя.
То был вопрос о сложных, запутанных отношениях между двумя живущими в нём людьми: высоконравственным моралистом и человеком искусства, художником. Бакин никогда не сомневался в истинности «пути прежних правителей» [22]. И его произведения, как сам он заявлял, как раз и являлись выражением в искусстве этого самого «пути прежних правителей». Таким образом, здесь не было никакого противоречия. Однако вопрос состоял в том, что важнее для человека искусства: «путь прежних правителей» или же его собственные чувства. Живущий в Бакине моралист считал, что важнее первое, тогда как художник, естественно, признавал куда более существенным второе. Разумеется, ничего не стоило разрешить это противоречие с помощью дешёвого компромисса. И в самом деле, он нередко пытался скрыть своё двойственное отношение к искусству за туманными рассуждениями о гармонии.
Но если других ещё можно обмануть, себя самого не обманешь. Он не считал литературу «гэсаку» [23] высоким искусством, называл её всего лишь «орудием поощрения добродетели и порицания порока», однако в минуты одержимости творчеством начинал вдруг ощущать беспокойство и неуверенность. Этим и объяснялось совершенно неожиданное воздействие на его настроение «Речных заводей».
Вот и сейчас Бакина охватила непонятная робость. Он закурил и попытался перевести мысль на всё ещё отсутствующих домочадцев. Но перед ним лежали «Речные заводи», источник его тревог, и ни о чём другом он не мог думать.
К счастью, вскоре к Бакину явился Ватанабэ Кадзан Нобору, с которым они давно не виделись. Одетый по всем правилам, в хакама и накидку, он нёс под мышкой что-то завёрнутое в лиловый платок. Должно быть, решил вернуть Бакину книги. Писатель обрадовался дорогому другу и поспешил в переднюю встретить его.
– Я пришёл повидать вас и заодно с благодарностью вернуть книги, – как и следовало ожидать, произнёс Кадзан, проходя в кабинет.
Помимо книг Бакин заметил у него в руке закатанный в бумагу свиток.
– Если вы сейчас свободны, взгляните, пожалуйста.
– О, показывайте скорее!
Стараясь скрыть за улыбкой охватившее его волнение, Кадзан вытащил из бумаги шёлковый свиток и развернул перед Бакином. На картине были изображены несколько унылых голых деревьев и двое мужчин, непринуждённо беседующих между собой, взявшись за руки. Земля под деревьями устлана жёлтыми листьями. На ветках там и сям сидят вороны. От картины веяло осенним холодком.
При взгляде на этот выдержанный в строгих, неярких тонах свиток глаза Бакина увлажнились и засияли.
– Как всегда, превосходно! Мне вспоминаются стихи Ван Моцзе:
Вслед за трапезой звучит каменный гонг. Из гнёзд вылетают вороны. Иду-ступаю по пустому лесу. Шорох падающих листьев…
XI
– Я только вчера закончил этот свиток. Он показался мне удачным, и я решил, с вашего позволения, вам его преподнести, – с довольным видом произнёс Кадзан, поглаживая выбритый до синевы подбородок. – Разумеется, говоря, что он показался мне удачным, я имею в виду только то, что это лучшее из всего до сих пор мной написанного. Ведь мне ещё ни разу не удавалось написать в точности так, как задумано.
– Спасибо большое. Только мне, право, неловко – вы совсем меня задарили, – пробормотал Бакин, не отрывая глаз от свитка. В этот миг он почему-то вдруг вспомнил о всё ещё не завершённом своём труде.
Но Кадзан есть Кадзан: он, казалось, целиком ушёл в мысли о собственных картинах.
– Всякий раз, глядя на творения мастеров древности, я задаюсь вопросом: почему им удавалось так рисовать? Что ни возьми, всё выглядит на их картинах подлинным, совершенным: и деревья, и камни, и люди. Более того: в них живёт душа создавшего их художника. Вот это и есть настоящее искусство. В сравнении с древними мастерами я кажусь себе хуже неумелого ребёнка.
– Недаром древние говорили: «Страшиться нужно грядущих поколений», – необычно для себя пошутил Бакин, с завистью поглядывая на Кадзана, целиком поглощённого своими картинами.
– Но и нам, этим грядущим, тоже страшно. Потому мы и не можем пошевелиться, зажатые между прошлым и будущим, и двигаемся вперёд, лишь когда нас подтолкнут. Впрочем, не одни мы: так было и с древними, так, пожалуй, будет и с теми, кто придёт после нас.
– И всё же, если не идти вперёд, можно упасть. Самое главное – стараться продвинуться вперёд хотя бы на шаг.
– Вы правы, это самое главное.
Некоторое время хозяин и гость хранили молчание. Оба напряжённо вслушивались в тишину осеннего дня.
Первым заговорил Кадзан, меняя тему разговора:
– А что ваша работа над «Восемью псами»? По-прежнему успешно продвигается?
– Какое там! Совсем наоборот. Кажется, в этом смысле и мне далеко до древних.
– Что ж, огорчительно это слышать.
– Поверьте, меня это огорчает больше, чем кого бы то ни было. Но что поделаешь, всё равно надо работать, покуда хватит сил. Так что я решил встретить смерть в бою с «Восемью псами». – Бакин принуждённо усмехнулся, будто стыдясь за самого себя. – Иной раз подумаешь: литература – вещь несерьёзная, и всё же не можешь полностью с этим согласиться.
– То же самое и с моими картинами. Но раз уж я избрал это ремесло, то хотел бы пройти весь путь, до конца.
– Итак, решено: мы вместе погибнем в бою.
Оба громко рассмеялись, но в смехе этом прозвучала лишь им двоим понятная горечь.
– И всё же я завидую вам, художникам. Вы по крайней мере избавлены от гонений, а это великое благо. – Теперь уже Бакин перевёл разговор на другую тему.
XII
– Это верно, но ведь и вам, насколько я понимаю, не приходится опасаться за свои произведения.
– Ещё как приходится! – воскликнул Бакин и в качестве одного из примеров гнусности цензуры рассказал о том, как однажды его заставили переписать целый отрывок из его романа только потому, что в нём говорилось о каком-то чиновнике-лихоимце. К этому Бакин присовокупил следующее замечание:
– Чем больше эти полицейские чиновники придираются, тем явственней вырисовывается их истинный облик. Любопытно, не правда ли? Поскольку они сами падки на подкуп, стоит писателю хотя бы вскользь упомянуть о взяточничестве, как они уже недовольны и велят ему переделать всё заново. Или же, поскольку они сами подвержены грубым, низменным желаниям, стоит