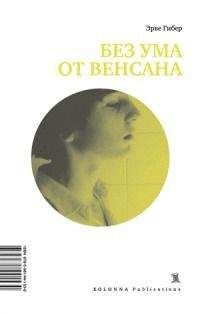Я и сам ничего ему не рассказывал. Если бы мы знали заранее, очевидно, кто-то из нас бы не пошел. Честно говоря, я вообще не ожидал, что он может оказаться на подобном мероприятии. Он такой нелюдимый, так не любит всяких молодежных гулянок и кажется совсем чужеродным в подобном интерьере. Как что-то несуразное. Совсем не в своей тарелке.
Он меня еще не заметил. Он еще не пытается выглядеть каким-то специальным образом и даже ни о чем не подозревает, держится абсолютно непринужденно и бесхитростно. Он затягивается сигаретой, оглядывается по сторонам, к нему быстро подходит приятель, которого я уже видел, из одного с ним класса, пожимает ему руку слегка небрежно, как ведут себя только с настоящими друзьями, которым ничего не нужно доказывать. Тут я задумываюсь об этом мире, в который я не вхож, о братстве, которое он выстроил с другими и где для меня нет места, и еще о его повседневной жизни, в которой я не участвую. Все это воплощено в его друге, их рукопожатие – символ той жизни. А я – мир невидимый, тайный, ирреальный. Обычно эта особость меня радовала. В тот вечер она причиняет мне боль.
Потому что, хотя порой между нами – ошеломляющая близость, такая, что ближе невозможно, все остальное время мы как будто вообще не знакомы, абсолютная отдельность: согласитесь, такая шизофрения сведет с ума даже самых уравновешенных. А я не из самых уравновешенных.
И этот ужас, когда нельзя показаться вместе. Ужас, который в этом конкретном случае усугублялся необходимостью – к тому же неожиданной, – находясь в центре сборища, вести себя как чужие. Ужас – быть не вправе демонстрировать свое счастье. Дурацкое слово, да? У других-то это право есть, и они вовсю им пользуются, без всяких ограничений. И от этого делаются еще счастливее, просто раздуваются от гордости. А нам остается скрываться, скукоживаться в нашей запретности.
И эта мýка, когда не можешь ни о чем рассказать, обязан хранить тайну, и проклятый вопрос, как бездна под ногами: если мы об этом не говорим, как доказать, что оно вообще существует? И когда-нибудь, когда наша история уже закончится, а она ведь не может не закончиться, никто не сможет доказать, что она вообще была. И одно из главных действующих лиц (он) сможет, если захочет, вообще всё отрицать, возмущаться, как можно выдумывать такой вздор. А другой (я) сможет этому противопоставить только свое слово, а оно не так уж весомо. Это слово не прозвучит никогда. Да, я никогда не рассказывал об этом. Только сейчас. В этой книге. Впервые в жизни.
Таковы мои ощущения к тому моменту, когда ему на шею вдруг бросается девушка. Она вышла из тени и норовит вторгнуться в его свет. И делает это так решительно, энергично и вдобавок так непосредственно. Эта непосредственность меня ранит, потому что в ее жесте заметна не только импульсивность – он выглядит искренним. Тома, конечно, слегка удивлен, он в замешательстве, но поддается, принимая как должное эту вольность, это объятие. Целует ее в ответ. Я мог бы увидеть здесь всего лишь женский вариант проявления приятельских чувств, вроде рукопожатия, которое я только что наблюдал, но охватившая и переполнившая меня ревность заставляет воспринимать эту сцену совсем иначе.
Ревность для меня не совсем неизведанное чувство, но все же довольно нехарактерное. Чувство собственничества мне чуждо, я не считаю, что можно присвоить права на другого человека, и вообще не считаю тут применимым понятие собственности. Я в высшей степени уважаю свободу каждого (вероятно, потому что не потерпел бы, чтобы покушались на мою). Я также способен, как мне кажется, на разумность и даже отстраненность. Во всяком случае, эти качества мне приписывают, уже в моем юном возрасте. Обычно я не веду себя как завистник, и отвратительная агрессивность отдельных мегер мне всегда казалась постыдной. Но все мои прекрасные принципы рухнули в одну секунду – в ту, когда девушка бросилась на шею Тома.
Потому что эта сцена – свидетельство жизни, прожитой без меня. А меня она отправляет в пустоту и небытие так жестоко, как только можно себе представить.
Потому что она показывает то, что обычно было от меня скрыто.
Потому что она рассказывает о привлекательности этого угрюмого парня и о том, сколько предпринимается попыток к нему приблизиться.
Потому что она предлагает опешившему и раздираемому противоречиями парню – выбор.
А вообще-то я просто не мог вынести мысли о том, что у меня могут его похитить. Что я могу его потерять.
И вот я, несчастный идиот, узнаю, как обжигает любовь.
(А когда тебя уже один раз обожгло, тебе страшно потом начинать заново, боишься новой боли, отстраняешься от этого ожога, чтобы избежать страданий; годами этот механизм будет определять мой выбор. Столько потерянных лет.)
Сразу после этого объятия Тома оборачивается в мою сторону (не надо усматривать здесь никакой причинно-следственной связи, никакого проявления бессознательного, это просто случайность, и оборачивается он неторопливо) – тут его взгляд наконец натыкается на меня. Никогда не видел такого изумления. Да, происходит именно это: его словно громом поразило. Сперва от того, что обнаружилось мое присутствие. Потом, надо думать, от осознания того, в каком виде его застигает это мгновение: парень, за которым увиваются, а он небрежно положил руку на бедро девушки. Трудно придумать что-то хуже. Он бледен, как труп, и выглядит таким же оцепеневшим. Девушка ничего не замечает, она продолжает кокетничать, говорить, даже орать что-то ему в ухо, то ли из-за чересчур громкой музыки, то ли – чтобы еще подчеркнуть их близость, он ее не слушает, но она не замечает. Только тот приятель, стоящий рядом, кажется озадаченным переменой в выражении его лица, в его позе. Но он вроде бы не понимает причины, потому что не смотрит в мою сторону, он не знает, что именно я повинен в этой метаморфозе.
А сам-то я? Я-то на что похож? А? Я, должно быть, выгляжу ничуть не лучше и не живее. Видимо, страдание меня обезобразило, исказило мое лицо смесью досады и грусти. Надин, которая вернулась ко мне с двумя стаканчиками пунша в руках, все это видит, а она слишком хорошо меня знает. Много лет спустя она признается мне, что обо всем догадалась в тот вечер. По моей испепеленности. Догадалась о моей любви к юноше с темными глазами. И вообще о моей любви к юношам. Для нее это стало откровением. Или, скорее, подтверждением. Как если бы она знала и до той