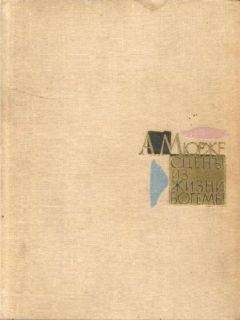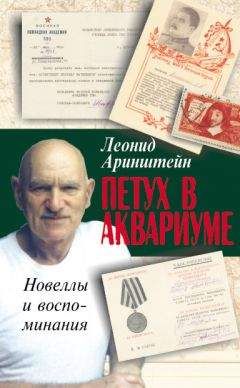Обрадованный благосклонностью кузины, Родольф возвращался на свой Сен-Бернар, распевая и приплясывая. Вершиной Сен-Бернар он называл свое жилище. Сейчас мы скажем, почему именно. Проходя по Пале-Руаялю, он увидел в витрине известной цветочницы мадам Прово белые фиалки и любопытства ради зашел прицениться. Более или менее приличный букетик стоил по крайней мере десять франков, а некоторые были и того дороже.
«Черт возьми! – подымал Родольф.– Десять франков! А у меня только неделя сроку, чтобы раздобыть этот миллион! Придется попотеть. Но ничего! Во всяком случае, у кузины фиалки будут! У меня идея!»
События эти происходили в то время, когда Родольф делал только первые шаги на литературном поприще. Весь его доход заключался в пятнадцати франках, которые ежемесячно высылал ему товарищ – великий поэт, долгое время живший в Париже, а затем получивший по протекции место школьного учителя в провинции. Злой мачехой Родольфа была расточительность, поэтому этих денег ему обычно хватало лишь на четыре дня. Однако он ни за что не хотел отказаться от священной, хотя и малодоходной миссии элегического поэта, и остальное время жил той случайной манной небесной, которая по временам перепадает на долю бедняка. Но Родольф не страшился поста и бодро его переносил, проявляя стоическое воздержание и мечтая о роскошных яствах, которые он вкусит первого числа,– тогда для него наступала пасха. В те дни Родольф обретался на улице Контрэскарп-Сен-Марсель, в огромном доме, некогда носившем название «особняк Серого Кардинала», ибо, по преданию, там проживал отец Жозеф, правая рука Ришелье. Комната Родольфа помещалась на самом верху этого дома, одного из самых высоких в Париже. Каморка эта, нечто вроде вышки, была превосходным помещением в летнее время, но с октября по апрель представляла собою Камчатку в миниатюре. В осеннюю и зимнюю непогоду ветры, дувшие с четырех сторон, проникали сюда сквозь окна, прорубленные во всех четырех стенах, и разыгрывали самые жестокие квартеты. Словно на смех, в комнате еще был камин, огромная пасть которого служила как бы парадным входом для Борея и его свиты. С наступлением первых холодов Родольф изобрел новый вид топлива: он разрубил на куски немногочисленные предметы своей обстановки, и неделю спустя мебели у него значительно убавилось – осталась лишь кровать, два стула, и то сказать, они были железные и по самой природе своей застрахованы от огня. О такой топке Родольф говорил: «Это-то и значит „вылететь в трубу“.
Итак, шел январь месяц, и термометр, показывавший на набережной Люнет минус двенадцать, поднялся бы всего лишь на два-три градуса, если бы его перенесли на вышку, которую Родольф называл своим Сен-Бернаром, Шпицбергеном, Сибирью.
В тот вечер, когда Родольф пообещал кузине фиалки, он, придя домой, страшно разозлился: ветры, дувшие со всех четырех сторон и весело резвившиеся в его каморке, разбили еще одно стекло. За две недели это было уже третье. Родольф разразился неистовыми проклятиями по адресу Эола и всего его неуемного потомства. Он заткнул дыру портретом приятеля и, не раздеваясь, улегся на двух досках, именовавшихся у него матрацем. И всю ночь ему снились белые фиалки.
Прошло пять дней, но Родольф все еще не представлял себе, каким же образом он осуществит свою мечту, а через два дня ему уже предстояло вручить кузине обещанный букет.
Тем временем термометр еще опустился, и несчастный поэт был в полном отчаянии, предвидя, что фиалки еще подорожают. Наконец провидение сжалилось над ним и пришло ему на помощь.
Утром Родольф отправился к своему приятелю, художнику Марселю, рассчитывая у него позавтракать. Он застал Марселя за беседою с какой-то женщиной в трауре. Оказалось, что это местная жительница, недавно похоронившая мужа. Она пришла узнать, за какую цену художник возьмется нарисовать на памятнике мужскую руку и написать под нею:
Я жду тебя, любимая супруга.
Чтобы с нее взяли подешевле, она уверяла, что когда господь призовет ее к супругу, художнику будет поручено нарисовать другую руку – женскую, с браслетом – и сделать вторую надпись следующего содержания:
Вот мы наконец и соединились…
– Я упомяну об этом в своем завещании,– прибавила вдова,– и напишу, чтобы заказ был поручен именно вам.
– В таком случае, сударыня, я согласен на вознаграждение, которое вы предлагаете… но только в надежде на рукопожатие,– ответил художник.– Не забудьте же обо мне в завещании.
– Мне хотелось бы, чтобы вы сделали надпись как можно скорее,– сказала вдова.– Однако особенно не торопитесь, а главное – не забудьте о шраме на большом пальце. Я хочу, чтобы рука была как живая.
– Не беспокойтесь, рука будет красноречивая,– уверял Марсель, провожая вдову.
На пороге вдова остановилась.
– Я еще вот о чем хотела вас спросить, господин художник. Мне желательно написать на могиле какую-нибудь штучку в стихах, чтобы там говорилось, какого он был примерного поведения, и чтобы были написаны его последние слова. Так получится очень трогательно, не правда ли?
– Очень. Это называется эпитафией. Чрезвычайно трогательно.
– Не знаете ли кого-нибудь, кто мог бы это сочинить и взял бы недорого? Правда, есть у меня сосед, господин Герен, он живет тем, что пишет всякие заявления и письма, но он заломил бешеную цену.
Тут Родольф подмигнул Марселю, и художник его мгновенно понял.
– Счастливый случай, сударыня, как раз привел сюда человека, который может быть вам полезен в этих прискорбных обстоятельствах,– художник, указывая на Родольфа.– Вот превосходный поэт, лучшего и не найти.
– Мне хочется, чтобы надпись была грустная и чтобы правописание было в порядке,– сказала вдова.
– Сударыня! Правописание мой друг изучил досконально. В школе он всегда получал награды.
– Это что! Мой племянник тоже получил награду, а ему еще только семь лет.
– Из молодых, да ранний,– заметил Марсель.
– Но скажите, пожалуйста, ваш друг умеет сочинять грустные стихи?– унималась вдова.
– Лучше всех на свете, сударыня. У него самого было много огорчений в жизни. Моему другу особенно удаются именно грустные стихи, и за это его постоянно упрекают в газетах.
– Как? – воскликнула вдова.– О нем пишут в газетах? Значит, он такой же ученый, как господин Герен?
– Он еще ученее! Обратитесь к нему, сударыня, не пожалеете.
Вдова рассказала поэту, каково должно быть содержание надписи, и пообещала заплатить десять франков, если он ей потрафит. Но ей хотелось получить стихи как можно скорее. Поэт взялся прислать их на другой же день.
– О добрая фея Артемизия! – воскликнул Родольф, когда вдова удалилась.– Ты будешь довольна, клянусь тебе. Я отпущу тебе полную порцию заупокойной лирики, и правописание будет безупречно, как туалет герцогини. О славная старушенция, да вознаградит тебя небо долголетием! Живи еще лет сто, как доброе вино!
– Я возражаю! – вскричал Марсель.
– Ах, правда! – спохватился Родольф.– Я и забыл, что после ее смерти тебе предстоит нарисовать вторую руку и, значит, долголетие ее тебе в убыток.
И он воздел руки:
– Не внемли моей мольбе, о небо! Ну и повезло же мне, что я к тебе зашел!
– А ты зачем пришел-то?– Марсель.
– У меня была к тебе просьба, а теперь я буду прямо-таки настаивать, раз мне предстоит за ночь сочинить столь красноречивую эпитафию. Дай-ка, во-первых, поесть, во-вторых, табачку и огарок и, в-третьих, костюм белого медведя.
– Собираешься на маскарад? Да! Ведь сегодня первое число!
– Какой там маскарад! Я дома зябну, как Великая Армия во время отступления из России. Что и говорить, мое зеленое ластиковое пальто и шотландские мериносовые брюки превосходны, но наряд этот сейчас не по сезону и пригоден разве что для обитателей тропиков. А когда живешь, как я, возле Северного полюса, куда уместнее шкура белого медведя. Я сказал бы даже – она просто необходима.
– Бери мишку!– Марсель.– Превосходная мысль! Он греет как жаровня, и ты будешь в нем словно хлеб в печи.
Родольф уже облачился в мохнатую шкуру.
– Теперь термометр ужасно обидится,– сказал он.
– Ты в таком виде и пойдешь? – Марсель, когда они доели довольно тощий обед, поданный на грошовых тарелках.
– А мне наплевать на общественное мнение,– ответил Родольф.– К тому же, сегодня начинается карнавал.
И он отправился через весь Париж с важным видом, как настоящий четвероногий, в шкуру которого он был облачен. Проходя мимо термометра Шевалье, Родольф показал ему нос.
Когда он появился дома, то изрядно напугал швейцара. Родольф поднялся к себе наверх, зажег свечу, тщательно обернул ее прозрачной бумагой, чтобы уберечь от заигрываний ветра, и тут же засел за работу. Но вскоре он заметил, что если тело его более или менее защищено от холода, то этого никак нельзя сказать о руках, и не успел он написать и двух строк эпитафии, как лютый мороз вцепился ему в пальцы, и перо выпало из руки.