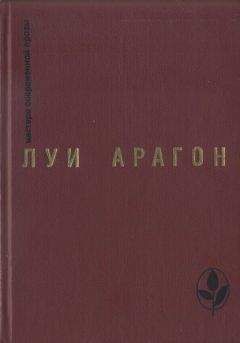— Дуреха! Она что думает, дети во рту делаются?
Вот. Бетти, в сущности, ей не поверила… Лопух. Странно, врать так нелепо, но все же врать.
— Вы не рассказывали мне, милый друг, о ваших похождениях… Оказывается вы каждый вечер… Ладно, ладно, не каждый, это, может, и перебор, но все же…
Я обращаю ее внимание, что в часы этих прогулок я, как правило, нахожусь у нее. Очко в мою пользу.
— Она говорит, что выйдет за вас замуж, поскольку у ребенка должен быть отец… вы будете управлять фабрикой минеральных вод, пока господин Шульц не уйдет на покой, а тогда уж займетесь и пивом…
— Нет. Это уж слишком. Я в самом деле рассержусь. Я рассержусь.
— Не стоит угрожать мне этим, — говорит Бетти, — вы уже и так рассердились. Взгляните на себя в зеркало, вам следовало бы расстегнуть ворот!
— Чтоб вы потом сказали, что беременны, благодарю покорно!
От ее серьезной мины не осталось и следа. Я же вам сказала, эти девчонки страшные выдумщицы, такое наплетут… Ну, а все-таки, вы с ней целовались? Послушайте, Пьер, мне вы можете сказать. Я ведь не дура. И потом вы в праве… хотя на вашем месте… среди них есть и покрасивее. К тому же девушка, которая считает себя беременной из-за того, что она… не велико, наверно, удовольствие. К тому же, когда она показалась в окошке, у вас был такой вид… весьма красноречивый, я могла допустить. И все-таки, нехорошо. Я вас считала более… ну, другим. А что это еще за выдумка, будто вы ночевали у Шульцев? Я понимаю, для оправданья необходимо, чтоб именно вы были первым встреченным ею французом, стоявшим на квартире у ее отца и т. д. В семье всегда говорили — наша дочь, за первого француза…
Мне хочется закричать: простите, Бетти. За что простите? И потом, это значило бы признать… признать не Лени́, вот дрянь какая, но признать, что… Я ведь Бетти ничего не говорил. Между нами ничего и не было. Она не больше вправе, чем я… Только бы не разнюниться. Этого еще не хватало. Речь идет о Лени́. Бетти взяла один из французских журналов. Что-то говорит. До чего ж талантлива эта мадам Шанель! Да, только в Париже. Говорят, любая девушка в Париже. Это правда? Врожденное изящество, так, что ли? Готов побиться об заклад, что не пройдет и десяти минут, как она отдаст мне Гёльдерлина за Рембо. Этого она не сделала, но села за рояль и сыграла по памяти, вы понимаете — по памяти, «Террасы в лунном свете»…
Она останавливается, опустив кисти, чуть касаясь пальцами клавиатуры, но мысли ее далеко. Потом она говорит: Пьер… Что? Пьер… Господи, что она сейчас сделает, что скажет? Я сам не свой, нет это невозможно, и все из-за ребенка, которого я сделал этой сумасшедшей! Я сам себе смешон. Ерзаю на диване. Охота высморкаться.
— Пьер, — говорит она, точно от повторения моего имени… — Пьер, мысль не так уж плоха. Сейчас она, не спорю, что называется Backfisch[66]. Но это проходит. И быстро. Подумайте, сформировать сознание девушки, превратить ее в женщину, ну, в общем, не только в постели… Как знать. Может, именно это и нужно — для жизни, для счастья, короче, для всего, что впереди. Не перебивайте меня. Что я хотела сказать? Жить в Бишвиллере не так уж плохо. Городок приятный, и люди не злые. Дом у Шульцев красивый. Теща будет вас обожать, a Kugelhopf она готовит еще лучше, чем мама. Семья весьма состоятельная. Зять сразу станет подлинным ее главой. Они католики, вы знаете? Это, очевидно, упрощает.
— О Бетти…
— Я не смеюсь. Я действительно так думаю. И говорю, что думаю. К тому же… Не делайте такого лица. Можете не говорить. Я отлично понимаю. Мы, лютеране…
— За кого вы меня принимаете, Бетти?
— За славного молодого француза, слегка лгунишку, но милого мечтателя, фантазера.
— Бетти!
— Что, Пьер?
И вот она уже снова вернулась к Гёте, который был моим ровесником, когда его застольный приятель Вейланд, страсбурский студент родом из Бишвиллера, ввел его в дом пастора Бриона в Зезенгейме. А Фредерика была примерно ровесницей Лени́ Шульц: так что тут нет ничего дурного. И как знать, останься Гёте в Зезенгейме… Девочка хранила ему верность в течение сорока двух лет, после их последней встречи. Есть о чем задуматься, говорит Бетти.
— Ведь вы, по вашим словам, как раз листали на днях «Dichtung und Wahrheit». Воображаю, что понимают в этой книге ваши крестьяне, с которыми вы дуетесь по вечерам в трефового валета. Разве не в трефового валета? Знаете, между нами говоря, я гётевской «Wahrheit» не очень доверяю. Что произошло на самом деле между ним и Фредерикой? Между вами и Леной Шульц? Даже между вами и мной, взбреди вам когда-нибудь в голову написать воспоминания о своей молодости, о своих годах ученья, милый мой Вильгельм Майстер. Останься Гёте в Бишвиллере… нет, в Зезенгейме. Может, он действительно только целовался с маленькой Брион? Кому это известно? Он же пишет: «In deinen Küssen welche Wonne!»[67] А вы могли бы так написать Лене Шульц, нет? Как знать, может, дочка пастора тоже думала, что дети делаются во рту… А папаша Брион был лютеранином. Впрочем, воспитание девиц что у католиков, что у лютеран…
Тут она принялась мне объяснять, что эльзасские городки хранят воспоминания, традиции, которые делают их гораздо более притягательными, чем то может показаться проезжему. Взять хоть Бишвиллер. Раньше 15 августа называлось там Дудочным днем, Pfeifertag, в этот день туда съезжались деревенские музыканты со всей округи, от Рейна до Вогезских гор, от лесов Хагенау до Хауенштейна, чтобы выразить свои верноподданнические чувства тому, кого именовали Geigerkönig — Скрипичный Король. Обычай восходит примерно ко времени основания Людвигсфесте. Когда Гёте посещал семейство Брион, Geigerkönig’ом был сеньор Де-Пон, унаследовавший в ту пору титул сеньоров Рибопьер. Бишвиллер продолжает по сей день рассматривать себя как своего рода музыкальную столицу. Она умолкла, точно замечталась, потом добавила, как будто и не было этого пробела, этой музыкальной паузы:
— Меня всегда приглашают туда играть. Так что мы не расстались бы окончательно, поселись вы в Бишвиллере. При условии, разумеется, что и я не уеду отсюда…
По правде сказать, я уже не слушал ее. Мне почудилось, будто я услышал. Боже мой, как мы рады уловить хоть малейший оттенок! Какие слова она ни произносила, самое главное, самое важное вовсе не то, что произнесено, но то, что таится за сказанным. Мне почудилось, будто я расслышал сожаление. А если и не сожаление, то нечто другое, какую-то дрожь в голосе. Что-то, во всяком случае, изменилось в наших отношениях. Слова Бетти были косвенным признанием в том, что между нами могло бы существовать, возможно, и существовало иное, совсем не то, о чем говорилось вслух. «Мы не расстались бы окончательно…» И о Лени́ ли думала она, об этом ли беглом и не имевшем продолжения поцелуе, когда повторяла строку Гёте «In deinen Küssen welche Wonne…» — так ведь можно сказать и о поцелуях, которые были, и о поцелуях, которых жаждешь. Во всяком случае. Разговор шел уже не о музыке, не о фанфарах… карнавал кончился.
Rantipole Betty she ran down a hill
And kickʼd up her petticoats fairly;
Says I, Iʼll be Jack if you will be Gill.
So she sat on the grass debonairly.[68]
Джон Китс
В Эльзасе нет больше Geigerkönig’ов. Не знаю, продолжают ли еще собираться вместе деревенские музыканты, относят ли они по-прежнему воск, купленный на деньги, взимаемые в качестве штрафа при разрешении тяжб между скрипачами, в церковь Тузенбахской Богоматери, покровительницы музыкантов, которая стоит неподалеку от Рибовилле, города сеньоров де Рибопьер. Мне нравится думать, что высокие свечи, горевшие вокруг Рихтера в тот вечер, были плодом приговора, вынесенного каким-нибудь Pfeiferkönig’ом, который, будучи назначен на годичный срок владетелем Рибовилле, вершил суд в качестве Скрипичного Короля на ярмарке в праздник Вознесения. Но все скрипки, все дудки на свете умолкли в тот вечер, предоставляя звучать музыке одного только Рихтера, отказавшегося, согласно неукоснительным правилам Зала Гаво, от «Стейнвея». Давно уже кончился «Карнавал». Но посмею ли признаться? После его последних аккордов, после антракта, во втором отделении концерта я уже не слышал музыки.
Я все еще пребывал среди снегов кончавшегося 1918 года. Среди света, ничем не обязанного огню свечей и медным монетам деревенских музыкантов. Мне еще оставалось, по окончании «Карнавала», сыграть последнюю часть, последнюю вариацию своей темы, вспомнить, как она оборвалась. Мне поручили сопровождать в Майнц отряд марокканцев, которых, в конце концов, у нас забирали. Не потому, что для чахоточных климат там оказался благоприятнее, но потому, что после того как в Майнце было заколото несколько французов, безликого врага хотели припугнуть появлением этих смуглых, как выражаются в Рейнской области, солдат. И, наверняка, чтобы нацелить подпольные ножи на новые мишени.