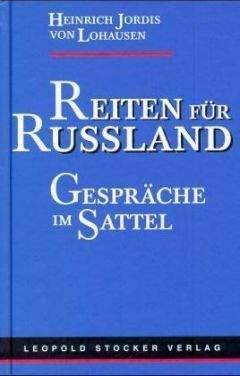— Да, милочка, мне надо сделать еще два-три безотлагательных визита… до свиданья.
И я не согласилась остаться даже „на пять минуток“ у приятельницы, хотя ровно никаких безотлагательных визитов мне не предстояло. В другое время я охотно слушала бы пустую светскую болтовню и поддерживала ее со своей стороны, но в этот день она показалась мне невыносимой. Мною овладела тоска… Ах, вот если б еще раз послушать таких речей, как вчера! Ах, Тиллинг… Фридрих Тиллинг!.. Значить, то, что напевали мне колеса экипажа, было правдой… Со мной произошло превращение — я поднялась в иную сферу чувств. Мелочные интересы, совершенно поглощавшие мою милую Лори: туалеты, бонны, светские браки и истории с наследствами, все это казалось мне до того жалким, ничтожным, что я была готова задохнуться, нет, нет, скорей на свелый воздух, на широкий простор! А главное: Тиллинг свободен; „принцесса увлекается теперь одним актером из Вург-театра“… Наверно, он никогда ее не любил… Это было преходящее увлечение», и оно отошло в область прошлого.
Промчалось много дней, а Тиллинг все не появлялся на моем горизонте. Каждый день я посещала театр, откуда спешила куда-нибудь на вечер, в надежде встретиться с ним, но все напрасно.
В мои приемные дни собиралось много посетителей, только между ними не было его. Да я и не ждала к себе барона. Он не мог прийти после слов, сказанных им на обеде у моего отца: «Графиня, вы не должны ожидать от меня этого», и потом после фразы, вырвавшейся у него на прощанье, когда он подсаживал меня в экипаж: «понимаю — значит, никогда». Странно было бы, если б он появился на моих журфиксах.
Я оскорбила его своей холодностью — это ясно. Барон избегал меня, в этом не могло быть сомнения. Но что же мне оставалось делать? Я горела нетерпением увидать его, загладить свою тогдашнюю нелюбезность и отвести душу в разговоре с ним, как в тот памятный вечер. Ах, как милы казались мне теперь часы, проведенные в обществе Тиллинга, после того, как я поняла, что он мне дорог. В следующую субботу, вместо желанного гостя, ко мне приехала, но крайней мере, его кузина, та самая, в доме которой я познакомилась с ним на парадном балу. Когда она вошла, сердце у меня забилось так сильно, что я с трудом подавила свое волнение. Наконец-то я узнаю что-нибудь о человеке, занимавшем, мои мысли. Однако я не решилась спросить о нем, чувствуя, что не могу произнести его имени без того, чтоб не вспыхнуть предательским румянцем. И таким образом мы толковали с моей приятельницей о разных разностях — между прочим, и о погоде, — но я не обмолвилась ни единым словом о том, что лежало у меня на душе.
— Ах, Марта, — спохватилась вдруг та, — я и забыла: мой кузен Фридрих свидетельствует вам свое почтение — третьего дня он уехал отсюда.
Я почувствовала, что вся кровь отхлынула от моих щек.
— Уехал? Куда? Разве его полк переведен?
— Нет… Ему дали отпуск ненадолго. Он поспешил в Берлин к умирающей матери, чтоб застать ее в живых. Мне ужасно жаль его; Фридрих обожает свою мать.
Два дня спустя, я получила письмо с берлинским штемпелем. На адресе был незнакомый мне почерк. Но я тотчас догадалась, от кого оно, даже не успев прочитать подписи. Bow. что мне писал Тиллинг:
Берлин. Фридрихштрассе, 8.
30-е марта 1863 г. Час ночи.
Дорогая графиня! Я должен перед кем-нибудь излить свое горе… Но почему именно перед вами? Имею ли я на это право? Конечно нет, но я чувствую неодолимую потребность к тому. Вы будете сочувствовать мне — я в том уверен. Если б вы знали мою бесценную мать, которая в настоящую минуту борется со смертью, вы полюбили бы ее. Чудное сердце, светлый ум, веселый нрав, и притом столько достоинства в характере, и все это должна поглотить могила — никакой надежды. — Я провел целый день у ее постели и проведу здесь целую ночь, ее последнюю ночь… Она ужасно страдала, бедняжка. Теперь ей немного лучше, но силы падают, пульс почти не бьется… Кроме меня, в ее комнате дежурят ее сестры и врач. Ах, эта страшная разлука навек! Хотя и знаешь, что смерть неизбежна, что никому из нас ее не миновать, но трудно примириться с мыслью, что она должна постичь и наших близких. Чем была для меня моя мать, я не могу даже и выразить.
Она умирает сознательно. Когда я приехал сегодня по утру, больная встретила меня радостным восклицанием:
— Ах, я еще раз вижу перед собой своего Фрица! А я все боялась, что ты приедешь слишком поздно.
— Ты опять выздоровеешь, милая матушка! — воскликнул я.
— Нет, нет; об этом не может быть и речи, мой старый мальчик! Не унижай священных минут нашего последнего свидания пошлыми утешениями, какие расточают всем умирающим. Простимся лучше как следует…
Я упал на колени у ее кровати и не мог удержать рыданий.
— Ты плачешь, Фриц? Вот видишь: я также не говорю тебе обычных слов: «не плачь». Мне приятно, что разлука с твоим лучшим старым другом огорчает тебя. Это служит мне порукой, что ты не скоро позабудешь свою мать…
— Никогда, пока я жив.
— Вспоминай при этом, что ты доставил мне много радости. Не считая забот во время твоих детских болезней и страха за тебя, когда ты бывал на войне, ты доставлял мне одно счастье и помогал переносить испытания, ниспосылаемые судьбою. Благословляю тебя за это, дитя мое.
Тут с ней опять сделался приступ сильных болей. Как она жалобно стонала и вскрикивала, как искажались страданием ее черты! У меня сердце разрывалось, глядя на нее. Да, смерть — это страшный, неумолимый враг… Вид агонии матери напомнил мне последние минуты всех, кто умирал в моем присутствии на поле битвы и в лазаретах… Когда я вспомню, что мы — люди — иногда подстрекаем ближних добровольно идти на смерть, внушаем цветущей юности пренебрежение к врагу, с которым даже изможденная, слабосильная старость борется так отчаянно, — мне становится стыдно за себя. Разве это не низость? Сегодняшняя ночь тянется невыносимо долго… Если б несчастная больная еще могла спать, а то она лежит с открытыми глазами. Я неподвижно просиживаю по получасу возле ее изголовья, а потом пробираюсь потихоньку в соседнюю комнату к письменному столу и прибавляю на этом листе несколько строк, чтобы опять вернуться на прежнее место. Так мы дотянули до четырех часов утра. Я только что слышал, как били часы на ближайших башнях города. Невольно содрогнешься при мысли, что время безостановочно, непрерывно подвигается вперед, неумолимо отсчитывая последние минуты горячо любимого существа, которое вскоре должно перейти в вечность. Но чем безучастнее все окружающее к нашим страданиям, тем сильнее жаждешь поделиться своим горем с другим человеческим существом, к которому тяготеет сердце. Вот. почему я соблазнился, увидев на столе чистый лист бумаги, оставшийся после докторского рецепта; я излил на нем все, что накипело на душе, и шлю его вам, уверенный в вашем сочувствии…
7 часов утра. Все кончено.
— Прощай, мой старый мальчик. — Это были ее последние слова. Потом она закрыла глаза и заснула напеки. Спи спокойно, бесценная старушка мать.
Со слезами целуя ваши милые руки, остаюсь ваш смертельно
огорченный
Фридрих Тиллинг.Письмо это я храню до сих пор. Как истерся и побледнел листок, исписанный его рукою! И не только протекшие двадцать пять лет привели его в такой вид, но также слезы и поцелуи, которыми я покрывала тогда дорогие строки. «Смертельно огорченный» — да… А мне хотелось громко вскрикнуть от восторга, когда я прочитала это послание. Хотя в нем не говорилось ни слова о любви, но нельзя было яснее выразить, что писавший любит не кого иного, как ту, перед которой он излил свою душу. Не думал же он о принцессе в такой час, у смертного одра матери, не стремился же он выплакивать свое горе на ее груди; нет, его тянуло ко мне, и этого было достаточно, чтоб заглушить в моем сердце всякое ревнивое сомнение.
В тот же день я отослала роскошный венок из белых камелий на гроб усопшей; посреди белых цветов красовалась одна алая полураспустившаяся роза. Поймет ли он, что бледные цветы без запаха предназначались покойнице в знак печали, а единственный цветок, пылавший багрянцем — ему?…
Прошло три недели.
Конрад Альтгауз посватался к моей сестре Лили и получил отказ. Однако он не принял этого в трагическую сторону и остался, как всегда, постоянным посетителем нашего дома, а в обществе — неизменным кавалером.
Однажды я выразила ему свое удивление по поводу его непоколебимой преданности вассала.
— Меня очень радует, — сказала я, — что ты не думаешь сердиться. Однако, вместе с тем, это служить доказательством непрочности твоего чувства к Лили, хотя ты утверждал противное. Отвергнутая любовь обыкновенно бывает мстительна и переходить в озлобление.