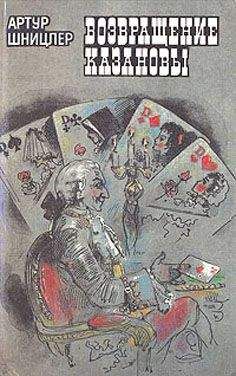Едва слышно и как бы машинально Тереза ответила:
— Во всяком случае, я благодарна вам, сударыня, за вашу доброту.
Потом направилась в свою комнату и собрала вещи. Прощание произошло быстро и без особой сердечности. Доктор Эппих выразил надежду, что ее матушка скоро поправится, девочки поверили — или сделали вид, что поверили, — в скорое возвращение Терезы. Однако в насмешливом взгляде молодого Жоржа она прочла: «Ох, какой же я молодец!»
41
Тереза опять заночевала у фрау Каузик. Но уже на следующее утро поняла, что не сможет оставаться в этих беспросветно нищенских условиях. Она прикинула свои возможности. Поскольку ей выплатили небольшую долю отцовского наследства, то она надеялась при некоторой бережливости продержаться с год. Прежде всего надо было найти убежище на ближайшее время. Но что делать потом, спрашивала она себя, когда речь уже будет идти не о ней одной? Мысли ее замирали, дыхание останавливалось, словно только теперь до ее сознания с полной ясностью доходило, что ей предстоит. И внезапно она вспомнила фрау Рузам, словно та была единственным существом, у которого она может найти понимание не только ее внешних обстоятельств, но и душевного состояния. Приветливый облик фрау Рузам породил у Терезы новую надежду, и она отправилась к ней, не признаваясь самой себе, что ее тянет туда еще и надежда найти там родной дом на самое тяжелое время.
Фрау Рузам как будто совсем не удивилась приходу Терезы. Когда та, спотыкаясь и запинаясь, изложила свою просьбу, фрау Рузам не удержалась и несколько забежала вперед, очевидно предположив, что у Терезы просто не хватает духу задать главный вопрос, ради которого и явилась: она заявила, что готова порекомендовать ей доктора, который и произведет эту небольшую операцию прямо здесь, в ее доме. Правда, стоить это будет… Тереза ее перебила. Не для этого, мол, пришла, об этом она больше не думает.
— Значит, насчет квартиры, — догадалась фрау Рузам. — Это вам понадобится, — она смерила Терезу испытующим взглядом, — в середине или в конце марта.
Правда, у нее есть кое-какие планы как раз на это время, но — посмотрим, что можно будет сделать.
И хотя Тереза об этом и не думала, предложение ее заинтересовало. Здесь ее ждали покой, дружелюбие, вероятно, даже забота — все то, по чему так истосковалась ее душа. Она осведомилась насчет условий. Проживание в течение трех недель исчерпало бы все денежные запасы Терезы.
— Но это действительно нормальная цена, — заверила ее фрау Рузам. — Может быть, вы придете сюда еще раз, вместе с супругом, и господин супруг осмотрит все сам! Вы вряд ли найдете что-нибудь получше, и, кроме всего всего прочего, — абсолютная секретность! Даже то, что касается регистрации в полиции… В этом отношении тоже имеются определенные связи.
Тереза ответила, что обсудит это дело «с супругом», и ушла.
Она решила пожить покамест у фрау Каузик и вскоре вновь привыкла к нищенским условиям. Фрау Каузик целыми днями не было дома. Тем больше времени Тереза проводила с ее детьми, ей нравилось помогать им с домашними заданиями, играть с ними, дабы не утратить напрочь свои навыки воспитательницы. Кроме того, здесь ее невозможно будет найти — тут она словно в другом городе, почти в другой стране. И мало-помалу она начала походить на людей, среди которых теперь жила, не только внешне, но и разговором, она даже стала подражать их диалекту. На одежду она с каждым днем обращала все меньше внимания, а быстрые изменения в ее фигуре только способствовали этой небрежности, которая тоже помогала изолировать ее от прежнего мира, от прежнего образа жизни.
Чтобы побороть скуку, частенько одолевавшую ее, она записалась в местную библиотеку, и за те долгие часы, которые проводила, сидя в одиночестве в своей мрачноватой каморке, проглатывала целые тома без всякого разбора, но всегда с большим интересом, с головой уходя в фантастически тривиальный мир. Изредка ей случалось и поговорить — по большей части на лестничной клетке — с соседями, и если кто-нибудь из женщин и отпускал замечание по поводу ее положения, то всегда лишь мимоходом, доброжелательно и шутливо, но никто из этих людей не находил в беременности Терезы ничего особенного, а тем более постыдного.
Однако бывали минуты, особенно ранним утром, когда она, еще лежа в постели, как бы пробуждалась от сковавшей ее тупости и находила свое существование непостижимым и почти недостойным. Но стоило ей, обычно после первого же движения, ощутить свое тело, как ей уже казалось, будто от новой жизни, растущей внутри нее, по всем ее членам, словно из тайного источника, разливается ток приятного изнеможения, в котором, как по мановению волшебной палочки, растворялось все ее существо, бесстрашно и смиренно полагаясь на волю естественного хода вещей. У нее не случалось болей, какие бывают у многих беременных, скорее, наоборот, ее здоровье находилось в особенно благополучном состоянии. Только день ото дня она все больше чувствовала какую-то физическую вялость, иногда утром, сидя на кровати и причесываясь, она вдруг застывала на несколько минут с гребнем в волосах, тупо уставясь в чужое лицо, смотревшее на нее из зеркала в деревянной раме, которое одиноко висело на голой стене: бледное, одутловатое, чуть ли не отечное лицо с полуоткрытыми голубоватыми губами и огромными удивленными пустыми глазами. Потом, очнувшись от забытья и тряхнув головой, она продолжала причесываться, тихонько напевая что-то себе под нос, потом тяжело поднималась и подходила вплотную к зеркалу, так что ее отражение ненадолго затуманивалось ее дыханием. На лице Терезы была написана такая странная печаль, какой она раньше никогда не ощущала.
Однажды ясным февральским днем она читала какой-то роман, в котором заманчиво описывалась веселая вечерняя толкотня на ярко освещенных улицах большого города, и у нее появилось страстное желание поглядеть на что-то радостное и сверкающее. Она подумала, что нет ничего проще. Надо только скрыть лицо под вуалью. А по фигуре, в этом она не сомневалась, ее никто не узнает. Под вечер она вышла из дому, чувствуя поначалу заметную тяжесть в ногах, которая, однако, точно по волшебству, исчезла, как только Тереза попала на одну из главных улиц; длинная строчка огней словно посылала ей привет из еще более сверкающих роскошью мест. Она доехала на трамвае до Оперы, отдалась на волю толпы, останавливалась там и тут перед витринами, испытывая одновременно тревогу и радость от света, шума и толкотни. Она сделала несколько маленьких, давно назревших покупок, и ей явно льстило, что в магазине ее впервые в жизни называли «сударыней». Когда она вышла оттуда, на нее навалилась такая усталость, что она заторопилась домой и сразу же легла в постель. Фрау Каузик как бы между прочим спросила, какие у нее, собственно, планы на ближайшее будущее. Здесь оставаться ей нельзя и пора уже поискать себе подходящее жилье. Фрау Каузик обронила слова «воспитательный дом». Тереза перепугалась, она об этом и слышать не хотела и следующим утром отправилась на поиски комнаты.
42
Дело это оказалось куда труднее, чем ей думалось. В каждой квартире были свои недостатки, которые не всегда можно было заметить в первый момент, так что Терезе пришлось в течение нескольких недель трижды переезжать, пока она наконец не нашла у одной пожилой женщины на пятом этаже комнатку, опрятную и приятную на вид, а по соседству не плакали и не шумели полдюжины ребятишек, и пьяный муж не колотил свою половину. Хозяйка квартиры фрау Неблинг, по внешнему виду и манере говорить, видимо, принадлежала к более образованному кругу. Дома она носила довольно потрепанный, но ладный халатик из розового бархата, а когда убирала квартиру, надевала длинные, правда, во многих местах заштопанные перчатки. В первые дни она мало разговаривала с Терезой, подавала ей скромный обед, а иногда даже обедала вместе с ней, но не пускалась в длительные беседы. После обеда она уходила и возвращалась домой только поздно вечером или ночью.
Таким образом, Тереза подолгу бывала одна и охотно пользовалась предоставленным ей правом проводить время в так называемом салоне со светлыми занавесками и картинами, писанными маслом, который казался ей уютнее, чем ее скромная узкая комнатка с одним окном. После множества переездов за последние недели она чувствовала себя такой усталой и тяжелой на подъем, что едва решалась выйти из дому. Теперь она уже больше не читала книг, только газету, зато от первого до последнего слова, читала машинально, не вникая в смысл, и под конец не знала, о чем же она прочла. Потом пыталась вызвать в памяти тех людей, которые много значили в ее жизни. Но ей лишь изредка удавалось даже на короткое время задержаться мыслями на каком-то определенном человеке — его образ тут же уплывал куда-то, и все они призрачными толпами проносились мимо, сменяя друг друга, чуждые и далекие. С ней самой происходило то же самое. Она вновь как бы потеряла себя, не понимала ни своей судьбы, ни своей сути. Что расплывшееся тело, на которое она тупо смотрела сверху вниз, что руки со сцепленными пальцами, лежавшие у нее на коленях, что ее отец умер в лечебнице для душевнобольных, что она была любовницей лейтенанта, что где-то в богемском или моравском городишке или Бог знает где еще в этом мире живет человек, от которого у нее должен родиться ребенок… Все это было для нее таким же нереальным, как и сам этот ребенок, который уже много недель безжалостно подавал ей сигналы о своем существовании и чье сердце словно билось в ее собственном. Ей чудилось, что этого, еще не рожденного ребенка она когда-то раньше уже любила, хотя не знала, когда и сколько это длилось — часы или дни. Но теперь в ее душе ничего не оставалось от этой любви, как не ощущала она ни удивления, ни раскаяния из-за того, что дело обстояло именно так. Мать…