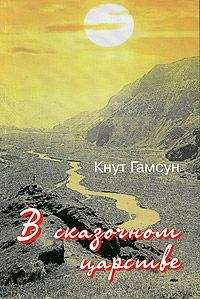Часы бѣгутъ, время летитъ. Сказочная страна снова прекрасна.
Близъ одного водопоя считаетъ добрѣйшій Карнѣй Григорьевичъ за должное пропустить впередъ насъ чужой экипажъ. Это русское семейство. Они ѣдутъ скорѣе насъ. Мы видѣли ихъ еще въ Корби; но, такъ какъ мы сегодня выѣхали на много раньше, то они не должны бы были нагнать насъ. Мы снова терпимъ отъ пыли, которую они поднимаютъ, и дѣлается невозможно дышатъ.
Тогда я ударяю Карнѣя кулакомъ по плечу и даю ему понять, что онъ натворилъ.
Онъ смотритъ съ минуту на насъ съ какимъ-то ужасомъ и удерживаетъ лошадей.
Онъ какъ-будто ничего не понимаетъ и попросту хочетъ ѣхать дальше. Тогда я выпрыгиваю изъ экипажа, держу лошадей и дѣлаю отчаянные жесты; однако его изумленіе при видѣ недуга, овладѣвшаго мною, становится все больше и больше. Онъ видитъ пыль, которая тихо и неподвижно стоитъ на томъ мѣстѣ дороги, гдѣ проѣхалъ экипажъ, она щиплетъ ему глаза такъ же точно, какъ и намъ, — это известковая пыль, она бѣлымъ слоемъ покрываетъ экипажъ, но того, что мы не можемъ ѣхать въ ея облакахъ, этого Карнѣй не можетъ постичь. Я долженъ держать лошадей цѣлыхъ пять минутъ, пока, наконецъ, становится возможнымъ ѣхать дальше. Мнѣ постепенно становится яснымъ, почему повелѣніе, царская воля такъ необходима этому великому народу.
Люди эти въ извѣстныхъ дѣлахъ черезчуръ глупы, они могутъ бродить на волѣ въ степи и пасти овецъ, заниматься своей землей и сдѣлать два-три удара заступомъ. Но въ отвлеченыхъ вещахъ мозгъ ихъ слишкомъ неразвитъ….
Я внутренно даю себѣ слово сдѣлать Карнѣю небольшой вычетъ по пріѣздѣ въ Тифлисъ.
Луна свѣтитъ уже ярко. Пять часовъ; солнце и луна одновременно освѣщаютъ окрестности; въ воздухѣ тепло. Этотъ мірокъ не похожъ ни на одинъ другой, извѣстный мнѣ, и мнѣ снова приходитъ на умъ, что я охотно остался бы здѣсь на всю жизнь. Мы теперь уже спустились такъ низко, что вновь начались виноградники, въ лѣсу растутъ орѣхи, а солнце съ луною свѣтятъ, словно соперничая.
Чувствуешь себя совсѣмъ безпомощнымъ при видѣ всего этого великолѣпія, если бы я жилъ здѣсь, то могъ бы каждый день созерцать его и бить себя въ грудь отъ изумленія. Здѣшній народъ выдержалъ борьбу, грозившую погубить его, но преодолѣлъ все, онъ силенъ, здоровъ, цвѣтущъ, и доходитъ нынѣ численностью до десяти милліоновъ. Разумѣется, кавказцу незнакома игра на повышеніе и пониженіе на биржѣ Нью-Іорка, его жизнь не есть бѣгъ взапуски, онъ имѣетъ время жить и можетъ стряхнуть съ дерева свою пищу или зарѣзать овцу, чтобы добыть себѣ пропитаніе.
Но развѣ европейцы и янки не люди болѣе высокаго разбора? Богъ вѣсть. Только Богъ, и никто другой знаетъ это, настолько это вѣрно. Нѣкоторые велики только потому, что окружающая ихъ обстановка мала, потому что столѣтіе мелко, несмотря ни на что. Я думаю о великихъ именахъ, исключительно въ предѣлахъ моего собственнаго призванія, о цѣломъ длинномъ рядѣ именъ, сочленахъ пролетаріата. Я охотно промѣняю дюжину ихъ единственно на коня при Маренго. Достоинства имѣютъ перемѣнную цѣну: ореолъ театральной славы здѣсь соотвѣтствуетъ блестящему поясу тамъ, и обоихъ поглощаетъ время, обоихъ время размѣниваетъ на другія цѣнности. Кавказъ, Кавказъ! Не напрасно черпали изъ твоихъ источниковъ величайшіе гиганты поэзіи, какихъ только знаетъ міръ, великіе русскіе поэты.
Шесть часовъ. Мы теперь на двѣ тысячи метровъ ниже, чѣмъ высота Дарьяльскаго ущелья. Солнце зашло, свѣтитъ одна луна, здѣсь тепло и томительно тихо.
Дорога вдругъ начинаетъ вновь подниматься, и мы ѣдемъ шагомъ. Горы становятся ниже, онѣ превращаются въ длинные хребты, надъ которыми высоко плывутъ облака. Сильно темнѣетъ. Мы подъѣзжаемъ къ станціи Анануръ.
* * *
Много людей стоитъ на улицѣ, благодаря теплому воздуху. Мы выходимъ изъ экипажа и входимъ въ домъ. Человѣкъ, котораго мы принимаемъ за хозяина, говорить намъ что-то и загораживаетъ дорогу. Онъ говоритъ не по-русски, а, вѣроятно, на одномъ изъ кавказскихъ нарѣчій. Мы складываемъ свои вещи и не обращаемся больше къ хозяину. Вдругъ вырастаетъ передъ нами одѣтый въ черкеску человѣкъ, который сообщаетъ намъ на бѣгломъ французскомъ языкѣ, что во всей станціи нѣтъ ни единаго свободнаго мѣстечка.
Что же дѣлать?
Онъ подзываетъ маленькаго человѣчка, который стоитъ въ невѣроятно огромномъ бурнусѣ внизу на дорогѣ; его зовутъ Григорій. Какъ только Григорій слышитъ, о чемъ идеть дѣло, онъ утвердительно киваетъ головой, увѣряя, что мы найдемъ себѣ пристанище, и указываетъ намъ впередъ.
Мы вытаскиваемъ свои вещи снова, усаживаемся въ экипажъ и ѣдемъ. Григорій бѣжитъ подлѣ насъ. Ему никакъ не менѣе пятидесяти лѣтъ, но онъ бѣжитъ, словно мальчикъ, несмотря на свой огромный кафтанъ и массу оружія, которымъ онъ обвѣшанъ.
Григорій приводитъ насъ къ удивительному двухъэтажному каменному дому, стоящему на каменныхъ же столбахъ. Никогда не видывалъ я ничего смѣшнѣе. Домъ, со множествомъ удивительнѣйшихъ норокъ, лазеекъ и засадъ. Намъ отводятъ комнату во второмъ этажѣ. Можемъ ли мы получить эту комнату въ свое исключительное распоряженіе?
Да. И наши вещи вносятся въ домъ. Нельзя ли достать бифштексъ съ картофелемъ, хлѣба и пива? Григорій киваетъ и летитъ внизъ по лѣстницѣ въ своемъ кафтанѣ.
Мы выходимъ и оглядываемся: темныя, совсѣмъ низкія горы; лунный свѣтъ, на югѣ башеньки и купола монастыря, на желѣзныхъ крышахъ котораго отражается сіяніе луны. Блестящіе купола на темномъ фонѣ ночи изумительно красивы. Внизу по дорогѣ бродятъ люди и лошади, почтарь проѣзжаетъ мимо и трубитъ въ свой рогъ.
Когда мы приходимъ домой, то навстрѣчу намъ выходитъ Григорій и сообщаетъ, что былъ на станціи, но не могъ добыть намъ бифштекса. Не хотимъ ли мы чего-нибудь другого? — И Григорій вытаскиваетъ изъ складокъ на груди своего кафтана живого цыпленка. Мы утвердительно киваемъ, и находимъ, что жареный цыпленокъ — превосходное блюдо. Григорій снова летитъ внизъ.
Черезъ нѣсколько времени Григорій уже зарѣзалъ цыпленка; мы видимъ изъ своего окна яркій свѣтъ на дворѣ: Григорій разводитъ огонь и дѣйствуетъ за повара.
Очагъ находился подъ открытомъ небомъ, топливомъ служатъ стволы подсолнечника, который походитъ здѣсь на небольшія деревца, и горитъ превосходно. Григорій ставитъ на огонь горшокъ съ водою; когда вода нагрѣлась, обмакиваетъ онъ въ нее цыпленка и принимается ощипывать его. Онъ кажется при свѣтѣ огня маленькимъ и темнымъ, словно подземный духъ. Григорій аккуратно дѣлаетъ свое дѣло, раньше, — чѣмъ начать жарить, онъ опаливаетъ пухъ до самаго корня.
Намъ подаютъ поѣсть, и кушанье на вкусъ превосходно; но уже во время ужина начинаютъ насъ такъ кусать клопы, что мы перестаемъ ѣсть раньше, чѣмъ бы хотѣли. Насѣкомыя выползаютъ изъ дивана, на которомъ мы сидимъ за недостаткомъ стульевъ, и взбираются на насъ. Славная намъ предстоитъ ночь, думаемъ мы и рѣшаемъ лечь спать, какъ только можно позже. Мы снова выходимъ на воздухъ.
У Григорія внизу лавка, онъ купецъ, и когда онъ не прислуживаетъ намъ, то стоитъ въ лавочкѣ и продаетъ разные превосходные нѣмецкіе товары, которыхъ у него настоящее изобиліе. Не безъ гордости показываетъ онъ намъ эти товары, привезенные такъ издалека, карманныя зеркальца, портмонэ и перочинные ножи.
Но, кромѣ того, въ его лавкѣ лежитъ еще цѣлая груда кавказскихъ ковровъ, и они-то интересуютъ насъ гораздо болѣе. Если бы только не такъ далеко было до дому! И если бы, къ тому же, ковры не были такъ тяжелы! Но они не дороги и въ высшей степени искусно сотканы. Женщины, которыя изготовили эти мастерскія произведенія искусства, имѣли, повидимому, безконечно много времени.
На улицѣ тихо, на дорогѣ нѣтъ больше ѣзды, но люди и не думаютъ отправляться на покой. Тамъ и сямъ на краю дороги сидятъ люди и болтаютъ между собою, дѣлая это совершенно такъ же, какъ и сосѣди у насъ дома; покуриваютъ свои трубочки, опираются руками на колѣни и вертятъ соломинку между пальцами.
Лошади со станціи ходятъ по лугу и пощипываютъ тамъ и сямъ травку, далѣе за стѣной одного дома кто то играетъ на струнномъ инструментѣ и подпѣваетъ.
Мы прислушиваемся и подходимъ ближе. Это молодой мальчикъ, его пѣсня звучитъ однообразно, но хватаетъ насъ за душу. Мелодія напоминаетъ намъ народныя пѣсни, изданныя Торомъ Ланге; здѣсь текстъ ихъ становится глубоко понятенъ намъ, и мы сознаемъ, какимъ изящнымъ поэтомъ былъ этотъ датчанинъ-изгнанникъ.
Становится поздно, но мальчикъ все еще сидитъ тамъ у дома и играетъ, а старые и малые сидятъ и болтаютъ у края дороги. У людей здѣсь такъ много времени, что одинъ-два часа совсѣмъ не играютъ никакой роли. Выпала сильная роса, лугъ становится сырымъ, но здѣшніе люди могутъ примириться и съ сыростью, къ ней они привыкли съ раннихъ лѣтъ. Когда же они встаютъ и идутъ, то кажутся словно вылитыми изъ стали. По всему Кавказу люди таковы, даже пастухъ, даже погонщикъ быковъ выступаетъ такъ свободно и легко, выставивъ грудь впередъ, и эластичной походкой. Женщинъ здѣсь видно мало, онѣ держатся особнякомъ, магометанство еще глубоко коренится въ этомъ народѣ.