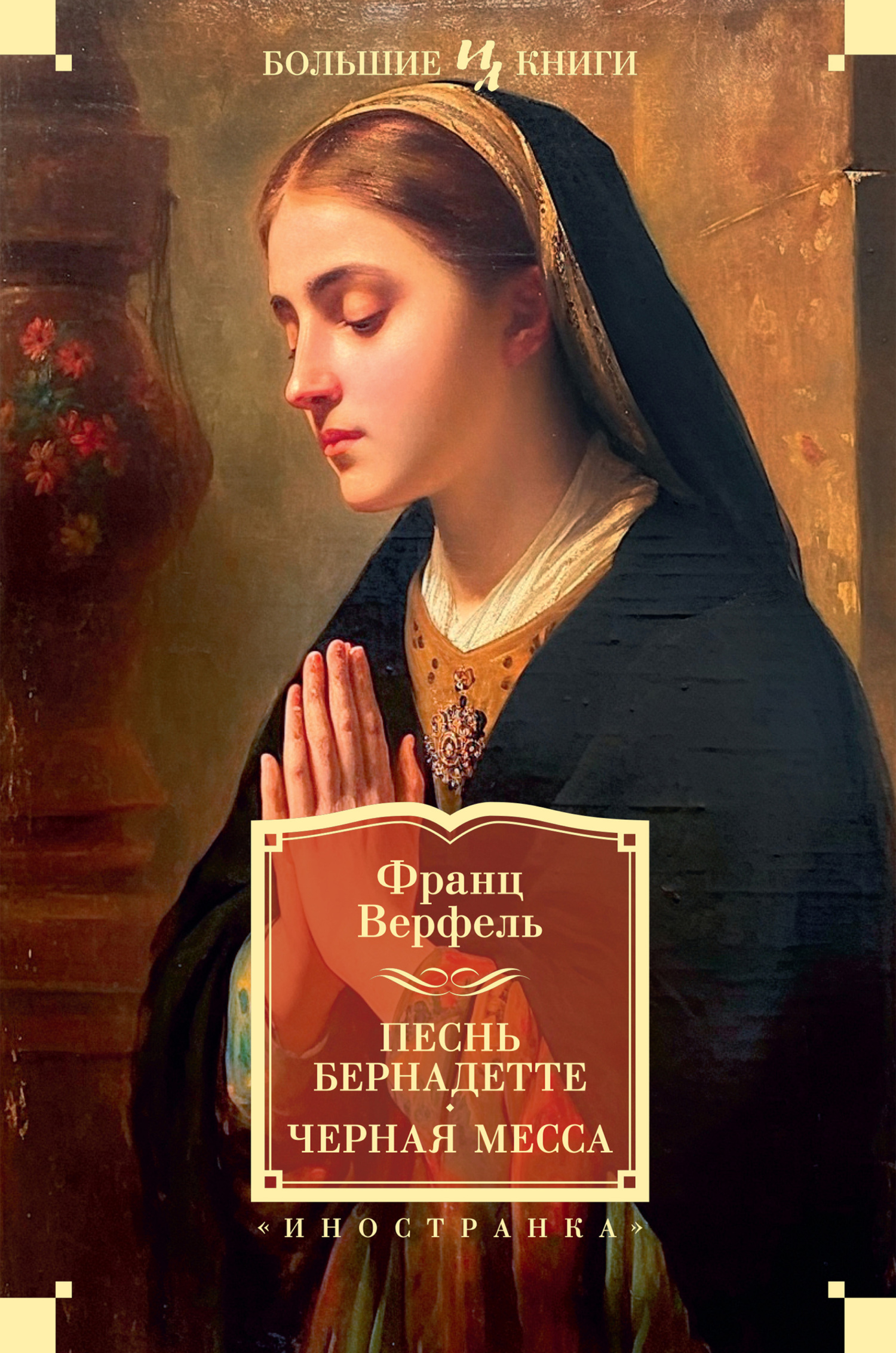начать новую, полную лишений жизнь.
Впервые в голосе усталой женщины прозвучала прежняя откровенная насмешка:
– Как хорошо, что вы были к этому только близки, господин заведующий…
Леонид не мог заставить себя замолчать, страстная исповедь срывалась с его уст:
– Все эти восемнадцать лет, Вера, с тех пор как я в последний раз протянул вам руку в окно купе, я был твердо уверен, что с нами что-то произошло, что у нас есть общий ребенок. Иногда эта уверенность возрастала, потом надолго слабела, иногда тлела, как огонь под пеплом. Но это так неразрывно связало меня с вами, как вы вряд ли могли предвидеть. Я был связан с вами моей предательской трусостью, хотя она мешала мне искать вас и найти. Вы, Вера, все эти годы, конечно, не думали обо мне. Но я, Вера, думал о вас каждый день, пусть со страхом, из-за угрызений совести. Мое вероломство принесло в мою жизнь сильнейшую скорбь. Я жил в странном единении с вами – могу наконец в этом признаться. Знайте, что сегодня утром из трусости я чуть было не разорвал непрочитанным ваше письмо, как сделал тогда, в Сен-Жиле…
Сказав это, Леонид замер. Не желая того, он разоблачил себя до самых глубин, до придонного ила. Внезапный стыд будто тер его затылок жесткой щеткой. Почему он не ушел вовремя? Черт его дернул исповедоваться! Его взгляд устремился в окно, за которым шипели дуговые лампы. Снова моросило. Будто в комарином танце, плясали вокруг светящихся шаров крохотные дождевые капли. Фрейлейн Вера Вормзер застыла. Было совсем темно. Ее лицо было как бледное видение. Леонид в страхе отвернулся. Ее увядшее лицо он почитал за святыню. Голос ее, деловой и холодный, как в начале разговора, казалось, удалялся.
– Это было очень практично с вашей стороны, – сказала она, – не читать мое письмо. Я с трудом заставила себя написать. Но я была совсем одна и беспомощна в тот день, когда умер ребенок…
Леонид не повернул головы. Тело его окаменело. Слова «церебральный менингит» всплыли в сознании. Да, как раз в тот год эпидемия унесла в могилу множество детей в Зальцбурге. Сообщение об этом, неизвестно почему, осталось в его памяти. Хотя он был как камень, из глаз его полились слезы. Но он не чувствовал боли – то была какая-то странная растерянность и еще нечто необъяснимое, что заставило его сделать шаг к окну. Из-за этого ясный голос отлетел еще дальше.
– Это был маленький мальчик, – говорила Вера, – двух с половиной лет. Его звали Йозеф, в честь моего отца. Все-таки я сказала о нем. А я твердо решила не говорить. С вами. Ведь у вас нет никакого права…
Человек из камня пристально смотрел в окно. Ему казалось, он не ощущает ничего, кроме бессмысленной череды секунд. Он глядел глубоко в землю деревенского кладбища Сен-Жиля. Одиноко возвышающейся горы в окрестностях Зальцбурга. Там лежали рядом засыпанные черной сырой землей косточки, которые произошли от него. Лежали до Страшного суда. Он желал хоть что-то сказать. Например: «Вера, я любил только вас одну». Или: «Вы попробуете со мной еще раз?» Все это было смешно, глупо и лживо. Он не сказал ни слова. Его глаза горели. Когда он, много позже, оглянулся, Вера уже ушла. Ничего от нее не осталось в темной комнате, только восемнадцать нежных чайных роз на столе сохраняли еще отблеск ее света. Аромат, поощряемый мраком, поднимался к потолку круглыми волнами слабого гниения. Леониду было больно оттого, что Вера забыла его розы или пренебрегла ими. Он взял со стола вазу, чтобы отнести ее портье. Но у двери передумал и оставил умирающие цветы в полной темноте.
Леонид стоит в ложе оперного театра, за спиной Амелии. Он наклоняется к ее волосам, которые благодаря долгим мучениям под никелевым шлемом в парикмахерской превратились в бесплотное облако и окружают ее голову темно-золотистым туманом. Безупречной формы руки и спина обнажены. Только узкие бретельки удерживают на теле мягкое, велюровое, цвета морской волны платье, надетое сегодня впервые. Дорогостоящая парижская модель. Из-за этого у Амелии праздничное настроение, она прекрасно себя чувствует, ей кажется, что в лучах ее света у Леона тоже настроение должно быть великолепное. Она скользит по нему взглядом и видит элегантного мужчину, у которого к ослепительно-белой рубашке в вырезе фрака будто привинчено сверху смятое серое лицо. На нее падает мимолетная тень страха. Что случилось? Между обедом и оперой, за один вечер вечно юный танцор превратился в пожилого джентльмена, чьи мигающие глаза и опустившиеся уголки губ выдают смертельную усталость.
– Ты намучился сегодня, бедный мальчик? – спрашивает Амелия рассеянно. Леонид пытается натянуть на лицо, как маску, свою восторженно-насмешливую улыбку, но это ему не вполне удается.
– Не о чем говорить, сокровище мое! Всего одно совещание. Потом, как обычно, целый день бездельничал.
Она ласково прижимается к нему мраморно-гладкой спиной.
– Моя сумасбродная болтовня выбила тебя из колеи? Я виновата? Ты прав, Леон. Вся беда в этом голодании. Но мне скоро тридцать девять. Скажи, что мне делать, если я не хочу ходить, переваливаясь с боку на бок, с роскошным двойным подбородком, с толстым крупом и ногами как ножки рояля? Ты был бы благодарен мне за это, – ты, фанатик красоты? Уже теперь – не возражай! – я не могу носить некоторые модные платья, не перешивая. Я не имею счастья быть худенькой манекенщицей, как твоя Анита Ходжос. До чего же вы, мужчины, несправедливы! Если бы ты душевнее ко мне относился, я была бы не беспардонной мерзавкой, а такой же чуткой, тактичной и восхитительно стыдливой, как ты…
Леонид едва заметно машет рукой:
– Не беспокойся об этом! Хороший исповедник забывает грехи своего прихожанина…
– Ну, это мне тоже не нравится, что ты так быстро забываешь мои мучения и страдания, – говорит она обиженно, отворачивается и подносит к глазам бинокль. – Какой великолепный зал!
Зал действительно великолепен. Сегодня вечером в опере собрались все обладатели высоких чинов, званий и имен. Ожидают важную персону из-за границы. Кроме того, прославленная певица прощается с публикой перед своими гастролями в Америке. Амелия неутомимо закидывает сеть своей приветливой улыбки и так же неутомимо вытягивает ее, та́я от света ответных улыбок. Как Елена на зубчатой стене Трои, она в возбужденной тайхоскопии [123] снобизма перечисляет имена и титулы собравшихся персон:
– Швитикис в третьей ложе бельэтажа уже второй раз тебе поклонилась, почему ты не отвечаешь, Леон? И эта Безенбауэр, мы дурно относились