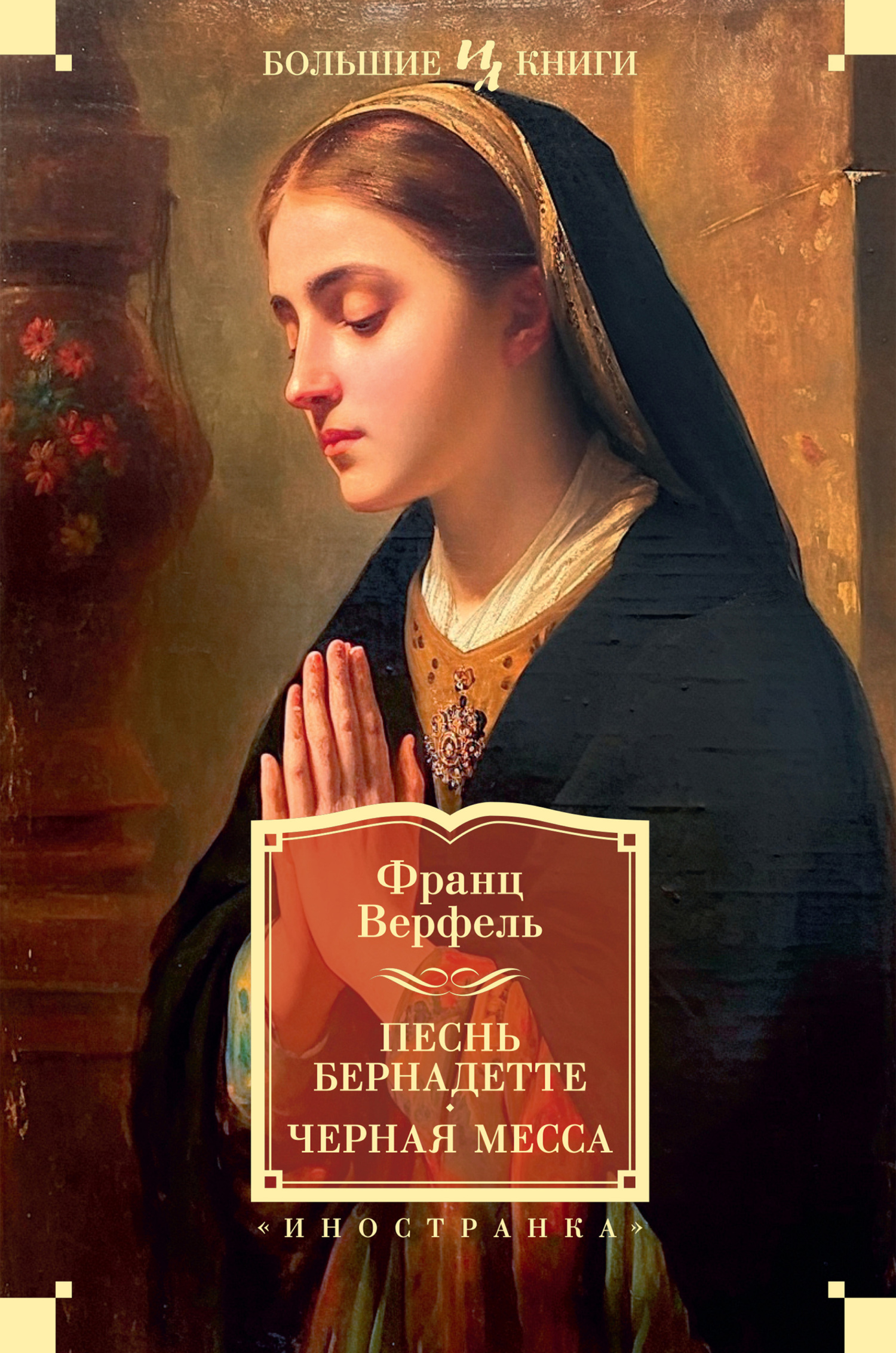расписание скорых поездов. Мадрид – Стокгольм, Палермо – Москва, София – Кельн! Составлять маршруты; сложные комбинации для меня не проблема. Я буду это делать лучше любого туристического бюро. Когда Геза отдыхает от музыки, я буду читать ему вслух серьезные книги. Я сейчас же попрошу родителей отпустить меня с Гезой. Родители знают, что больше я ни на что не гожусь. Не желаю для себя ничего лучшего, господин профессор де Варшани, чем быть слугой и секретарем вашего сына. Считать и вычислять проценты я умею.
Это был серьезный момент в жизни Фредди; он нажал на дверную ручку, чтобы сойти вниз и осуществить свое намерение. Но вышло по-другому: в дверях он столкнулся с мамой.
Мама была до крайности раздражена. В таком состоянии голос у нее становился резким, как крик павлина; в нем слышалось горячее желание оскорбить. Внезапно спадала с нее вся мудрость священного Востока, прятался куда-то Будда Гаутама с покрывалом Майи, пропадали иллюзорность явлений действительности и предосудительность желаний и чувств – короче, весь тот возвышенный мир, который мама рекламировала в женском клубе. Когда мама издавала павлиньи крики ярости, папа тихо выходил из комнаты, а Фредди вертелся на стуле от неловкости. Он чувствовал отвращение к маме, когда она вот так сердилась; она жаловалась и клокотала от бешенства:
– Фредди, это неслыханно, ты испортил этот вечер, твой день рождения, праздник, который мы с папой устроили для тебя, только для тебя. Один из величайших артистов нашего времени оказал нам честь: одаренный Богом ребенок, которого почитает весь мир, играет программу своего концерта в нашем салоне, а глупый мальчишка, бестолочь, вместо того чтобы целовать ему руки и благодарить родителей, потягивается за столом, как неотесанный слуга; ты молчишь, наполняешь до краев свою тарелку и не притрагиваешься к еде, будто мисс О’Коннор не учила тебя хорошим манерам, пока тебе не исполнилось одиннадцать; когда говорит профессор де Варшани, чье каждое слово ты, четырнадцатилетний мальчик, должен ловить как манну небесную, ты демонстративно отворачиваешься. После этого я, неисправимая идеалистка, устраиваю тебе тет-а-тет с нашим уважаемым гостем, с этим великим маленьким мастером, чтобы в беседе вы обменялись своими мнениями – но есть ли у тебя вообще свое мнение? – чтобы ты из этого вечера почерпнул что-нибудь для жизни, взял и припас для будущего. И ты, ты оставляешь гостя одного – артиста, которого нежат и лелеют короли, президенты и министры, а ты от него уходишь! Почему ты сбежал?
– Не знаю, мама, – искренне сказал Фредди.
– Это в тебе говорит упрямство! – сказала мама; она выглядела очень несчастной. – Мне это знакомо. Ты поклоняешься грубой силе, а не духу и культуре. Увы, это безнадежно! Ты ничего не хочешь воспринять – ни от чего и ни от кого… Ты думаешь, я не заметила, как критически, будто обличая, смотрел ты все время на Гезу де Варшани?..
В ответ на это странное заключение Фредди смолчал.
– Теперь ты немедленно сойдешь вниз, – приказала мама, – и попросишь прощения у Варшани. Они уходят…
– Я не спущусь, мама, – ответил Фредди сдавленным голосом.
– Сейчас подходящее время, – настаивала она. – Не задерживай меня. Де Варшани прощаются. Они уезжают завтра утром в девять. Пойдем со мной, Фредди…
– Нет, мама, я останусь здесь, – сказал Фредди, будто напряженно размышляя.
Важное решение растаяло от саркастического маминого голоса. Фредди был как сошедший с путей поезд. Он не будет слугой и секретарем Гезы. Завтра в девять утра Варшани уедут из города. У них гастроли в Стокгольме, Бухаресте, Буэнос-Айресе, Нью-Йорке. Геза меня уже забыл. Я никогда его не увижу…
В голосе мамы, встретившей сопротивление своей воле, зазвучала откровенная враждебность.
– Не понимаю, – пожаловалась она, – почему мой, именно мой сын стоит на такой низкой ступени духовного возрождения… Делай, что хочешь, Фредди! Ты никогда не обретешь душу!
Нанеся этот удар кнутом, мама уже собиралась выйти из комнаты. Но прежде, чем она успела открыть дверь, Фредди медленно, с каким-то задумчивым видом опустился на колени перед диваном и уткнулся в него лицом. Мама испугалась. Она подбежала к сыну и, как всякая мать, положила руку ему под воротник рубашки.
– У тебя жар, Фредди, – сказала она неожиданно мягким, виноватым тоном.
Фредди сильно тряс головой, судорога сводила мышцы спины. У него не было жара. У него было нечто посерьезнее, чем жар. У него была душа. Душа, которую его мать в нем не признавала. Но что понимают отцы и матери? Душу Фредди пробудило из состояния куколки внезапное и непонятное восхищение пред недосягаемо высоким. Даже любовь горячит не так яростно, как восхищение перед высшим, в ком бы это высшее ни воплотилось. Но душа – такой недуг, от которого уже не оправишься вплоть до смертного часа и даже, возможно, после. И Фредди от него не избавится, что бы ни стало с ним сегодня или через двадцать лет после этого памятного вечера с давно пропавшим куда-то Гезой де Варшани.
Санта-Барбара, лето 1943
Фрагмент романа
Верьте или не верьте, я был тогда монахом; моя мать дала торжественное обещание посвятить меня Богу, – ведь когда она была беременна, я находился во чреве ее в положении столь неудобном, что роды грозили ей смертью. Мне было десять лет, когда она исполнила обет и отвела меня к братьям Арпата, которых хорошо знала. Там, в монастыре и на вершинах Хиллигенхилла, я вырос, учился и скоро постиг троякий смысл Писания.
В молитвенном усердии я за короткое время превзошел прочих послушников; в посте и самобичевании моя полная страстей юность возвысилась над рвением лучших из братьев; приор и старейшины вселили в меня надежду, что со временем во всем христианском мире будут почитать их монастырь как родину Святого.
Но там, где Бог могуч, и Дьявол не слаб.
Без труда преодолевал я соблазн чревоугодия, сонливость, леность сердца и духа; тем сильнее пришлось мне сражаться с похотью, ибо хотел я стать ее господином.
Под рубашкой я носил в семь кругов обвивавшие мое тело цепи. Тщетно! Несколько секунд держал я в огне руку и босые ступни на горящих углях. Тщетно! Зимней ночью стоял я по бедра в ледяной воде, пока братья пели хорал и служили мессу. Тщетно!
Я никогда не спал на деревянных досках, а еженощно – на камнях крытой галереи. Тщетно! Попросил я как-то на исповеди у приора кастрировать себя. Коллегия это обсудила, но просьба была отклонена как нарушение Божественной воли и законов.