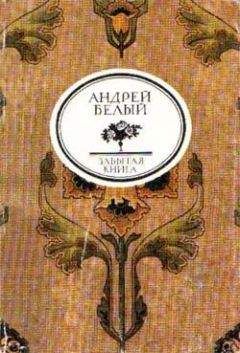– Петр, довольно: у тебя сердцебиение!
Стыдливо она от него отодвинулась; выглянуло солнце и ударило ей в лицо: в глазах у нее павлиньи перья, а на ней забегала сетка ясненьких зайчиков; но скрылось солнце.
– Слушай, Петр, – покраснела глупая девочка, – правда ли, что мужчины… что мужчина, – она покраснела густо, густо – так густо, что даже руками закрыла лицо, – что мужчины любят совсем посторонних женщин… так, просто: ну, когда вовсе они не любят!
– Правда, краса моя: есть такие мужчины!
– И они так же тогда целуются, как ты сейчас меня целовал? – а сама думает Катя, что вот у мужчин какие колючие щеки; так и горит ее лицо от прикосновений этих колючих щек.
– Любишь ли ты меня, Петр?
– Как же мне, краса моя, тебя не любить!
– Значит, я – первая в твоей жизни?
«Да!» – чуть ли не выговорил Петр и запнулся, а Катя на него смотрит испуганно, прижимая руки к груди, и ее малиновый теперь ротик полуоткрылся… «Да!» – чуть ли не выговорил он, но вспомнилось ему вчерашнее его безумство, и он запнулся: ему вспомнилась та одна, которую он никогда не встречал, не встретил и в Кате. Катю он любит, но Катя – не та заря: да и встретить нельзя ту зарю в образе женском.
– Ну, ну? – так и впилась в него Катя глазами и пальцы ее невольно сломали ярко-розовый цветка султан; а он – нахмурился он и снова щетина нависла у глаз, и зеленые уголья глаз на луг перед ней рассыпали молньи: ту можно встретить; но лик ее обезобразит земля; вдруг перед ним уже стоял образ вчерашней бабы: т а, пожалуй, была бы его зарей; так, подземным пылая пламенем, он стоял, скрестив руки, и говорил:
– Слушай меня, моя тихая Катя! Если не примешь ты меня, каким родила меня мать, я уйду от тебя далеко, а вдали от тебя я паду низко, потому что огненна моя страстная кровь; и кровь меня отравляет. Катя, невеста моя, за кого ты идешь? Если б ты знала!…
– Я знаю, я знаю! – тихим стоном пронеслось близ него; Катя все поняла: да – он такой же, как все; и, такой же, как все, он имел до нее с женщиной позорную связь; у, как он там стоит, точно красный, в нежных цветах, ее покой смущающий апостол; и что-то на нее звериное глядит из него. А кругом – шум: кучки деревьев, – осин, дубов, вязов, – закипают попеременно; и стоит вдалеке беспеременный шум, прошлому говорящий «прости». Точно шла проповедь красных апостолов о том, чего нет, но что вскоре случится; а сблизи дерева замирали, поджидая к ним летевшую, непетую песнь: песнь души ее пелась и страшная проповедь начиналась, чтобы далече, далече по селам, лачугам и звериным тропам разнести Катин души размах; и зверье откликалось; может быть, там – на звериной тропе одичавшая выползала собака, чтобы, поджав уши, уткнуть морду вверх и вторить порыву; и, может быть, – человечьи у ней были глаза; а она, собака, человечьими своими глазами глядела теперь на прохожего; он же крестился и пуще нахлестывал трусившую по грязи лошаденку, и за ним среди бела дня гнался оборотень; что же страшного тут, коли оборотнем оказался и ее Петр!
Он стоит и молчит, и глядит на нее горящими угольями: но Катя перемогла себя: во мгновение ока пережила она бурную его жизнь; внутренним оком его она провидела паденье; но она провидела и кару, нависшую над ним: ей показалось, что его голова излучает невидимое, мозг сжигающее, пламя; но она не знала, что адское это пламя – его завтрашний день. Она пережила все и все простила.
– Принимаю тебя всяким…
Он опустился на колени в сырую траву, в крапиву, а она горестно поцеловала его в его пламенный лоб.
Вот уже поднялся с земли, опоясанный силой ее любви для будущей битвы.
Палашка, барынина прачка, на прудике полоскала белье: она была мягкая, белая, полная, розовощекая; желтенькие на щечках ее цвели веснушки, а белые полные ножки наполовину в воде были подоткнуты до белых ее колен; растрепались волосики.
Когда глянуло солнце, так и забегали по ней его солнечные зайчики: забегали и по голым рукам, и по голым ногам, и по розовой юбке; а в тонких, тонких ветвях, вся в лучах, вся в цветах она была – просто прелесть какая! Так и забегал вокруг генерал Чижиков: «Ишь, старый», – подумала Палашка и усмехнулась.
Генерал Чижиков не удержался: из цветов, из ветвей он напал на нее: «Гозанчик, гозанчик, поцелуй меня!» – и, сделав из рук рожки, граф Гуди-Гудай-Затрубинский белую пощекотал Палашкину грудь, и полез руками за рубашку; запыхтели они и забились, пока вырвавшаяся Палашка, огрызаясь, не хлестанула его по лицу мокрым бельем: «Ишь ты, пристал – вот ужо пожалуюсь барыне!»
Но генерал Чижиков, обтираясь платком, ей послал поцелуй: «Мягкая какая… Везешки не хочешь?»
Тут налетел он на Чухолку, которому надоело сидеть во флигельке; увидев испанскую луковицу, торчавшую из его кармана, генерал Чижиков тотчас же забыл неприятный для себя инцидент. – А, что? У вас ук, испанский ук? Какая пгей-есть! Э, да не бомба ли это?… Давайте-ка укови-цу! – и он выхватил луковицу из кармана казанского студента…
– Великий химик Лавуазье делал опыты; колба лопнула, и кусочек глаза попал в стекло, то есть, наоборот: и кусочек стекла попал в глаз, – попробовал сострить Чухолка.
Генерал испугался, торопливо сунул Чухолке луковицу в карман и быстро ретировался.
– Подозгитейно, очень подозгитейно, – зашептал он и вынул записную книжечку.
Через два часа гости уехали.
– Барышня, будете в Лихове, милости просим к нам; лучше у нас, чем в гостинице, – говорил Кате на прощанье Лука Силыч, сладострастно оглядывая ее похорошевшее, соблазнительное лицо.
Кучер взмахнул лимонными рукавами; звякнули бубенцы и дворянская красная фуражка еще долго качалась из-за дерев.
Генерал Чижиков весело пофыркивал в проплеванные свои бачки: «А, о, огого, бгат Ука! Эдакая девчоночка! Да ее бы», – он наклонился к Еропегину и зашептал непристойность.
– Пора бы и кушать: поди, чай, девятый час! – так решил Евсеич и вышел из комнаты: резкий зов кричащего гонга оглушил окрестность; крякнула вышедшая старуха и тучи черней она уселась за стол.
Она заперлась с самого с отъезда гостей: но она не плакала; сухое горе давило ее, и старуха переносила на окружающее свое недовольство: где они все? Что за порядки? Как водворился этот попович, так пошли всякие опозданья, шептанья в углах, в кустах любовные шашни.
Она теперь была бедна; ее выгонят из этого дома; чем ей теперь уплатить долги: минула любовь, минула младость; все, все отходило в хаос довременный; деревья в окне порывались, и хаос довременный зашумел в их лапчатых ветвях: там, в окне, теперь уползало ненастье; темная, томная, белоглавая уползала к Лихову туча; ее осиянные купола, распустив ввысь плащи, опадали над лесом. Старуха наклонилась к болоночке и жалобно воркотала: «Мимочка, болоночка ты моя, одна ты у меня, собачоночка глупенькая»…
Вдруг перед старой выросло нелепое лицо, до ужаса безобразное, и совиный носик над ней закачался, и над ней помаргивали гадкие, сладкие, как ей показалось, щелки глаз, а длинная с испанской луковицей рука протянулась к самому ее носу; в это время белая болонка вылетела из-под юбки ее ожесточенно и тотчас же полетела обратно под юбку, когда о пушистый белый болонкин хвост жалобно преткнулась тонкая чухолкина нога: – Ах-с, пардон, мерси-с – виноват: я оскорбил почтенное существо, бессмертную, так сказать, монаду в собачьем возрасте, то есть, – нет: в собачьем облике, и по очень простой причине, что… перевоплощение земнородных существ в их коловратном вращенье [60]…
– А ты кто такой, батюшка? – в негодовании вскипела старушка, поднимаясь с кресла и сжимая палку в руке.
– Я… я… я, – законфузилось нелепое существо, – я – Чухолка…
– Какая такая?
– Извините, не будучи вам представлен, являю вам образ лучшего друга и однокашника вашего избранника – наоборот: избранника вашей дочери… тут у вас гулял в благорастворении воздуха…
– Нет, откуда ты, батюшка мой, сюда попал? – в совершенном свирепстве продолжала наступать на него старуха.
– Из… из Казани, – пятился Чухолка, умоляюще ей протягивая лук.
– Ну, так ступай же в свою Казань! – и повелительным жестом она ему указала на дверь.
Но уже в дверях показались Дарьяльский и Катя; Катя первая сообразила опасность, грозящую Чухолке; она кинулась было вперед; но Дарьяльский, побледнев, схватил ее за руку и отбросил назад; все в нем кипело гневом, видя оскорбление, наносимое человеческому существу; но он перемог себя, скрестил руки и, тяжело дыша, молча наблюдал разыгравшееся безобразие.
И действительно, было от чего прийти вне себя: растерявшийся Чухолка праздно качался перед взбесившейся баронессой, которая, наконец, нашла исход как весь день душившему ее беспокойству, так и буре, поднятой в ней еропегинскими словами; но чем более наступала старуха, тем беспомощней улыбался ей Чухолка: все координации нервных центров расстроились в нем, и автоматические движенья длинных рук получили господство над движениями сознательного «я»… многие «я» теперь вихрем неслись в его представлениях, и когда он заговорил, то казалось, что десять плаксивых бесенков, переБивая друг друга, выкрикивали из него свою чепуху.