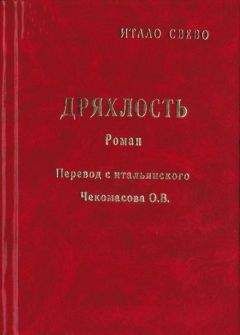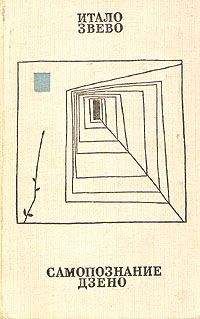Эмилио сразу зашёл в дом. Хозяйку комнат звали Параччи, она представляла из себя гнусавую старушку, одетую в грязную одежду, под которой угадывались пышные формы груди — остаток молодости посреди дряблой старости. Голова её была покрыта не очень густыми волосами, под которыми виднелась пористая и красная кожа. Она приняла Эмилио очень любезно и вскоре сказала, что сдаёт комнаты только тем людям, которых очень хорошо знает, следовательно, ему сдаст.
Эмилио захотел посмотреть комнату, и, сопровождаемый старухой, он вошёл в неё через дверь над ступеньками. Старуха сказала, что другая дверь всегда закрыта, а ведёт она в конец квартала. Комната оказалась даже слишком меблированной, её загромождала огромная чистая кровать и два больших шкафа, посередине стоял стол. Также в комнате был диван и четыре стула. Ни для чего другого места уже просто не было.
Вдова Параччи принялась разглядывать Эмилио, воткнув руки в большие выступающие бока. Она улыбалась — грубая гримаса, демонстрирующая беззубый рот. Синьора Параччи ждала от Эмилио слова одобрения. Действительно, комнату даже пытались приукрасить. У изголовья кровати был воткнут китайский зонтик, а на стенах, даже здесь, висели разные фотографии.
У Эмилио вырвался вскрик удивления, когда он увидел рядом с фотографией полуголой женщины фото девушки, которую он знал. Это была подруга Амалии, которая несколько лет назад умерла. Эмилио спросил у старухи, откуда у неё взялись эти фотографии, и та ответила, что купила их для украшения комнаты. Эмилио долго разглядывал доброе лицо этой бедной девушки, которая прямо стояла перед аппаратом фотографа, возможно, единственный раз в жизни, чтобы затем послужить украшением этой дрянной комнаты.
И всё же в этой дрянной комнате, в присутствии грязной старухи, которая глядела на него, довольная тем, что получила нового клиента, Эмилио мечтал о любви. Именно в этих условиях было сверхвозбуждающим представить Анджолину, которая придёт и принесёт с собой желанную любовь. Дрожа от жара, Эмилио подумал: завтра я буду здесь с любимой женщиной!
И всё это несмотря на то, что он любил её меньше суток назад. Ожидание сделало Эмилио несчастным, и ему уже казалось невозможным радоваться. Примерно за час перед тем, как пойти на встречу, он подумал, что если не получит желаемой радости, то заявит Анджолине, что не хочет её больше видеть следующими словами:
— Ты так нечестна, что противна мне.
Эмилио думал об этих словах в присутствии Амалии, завидуя ей, так как видел, что она убита горем, но спокойна. И Эмилио подумал, что любовь для Амалии оставалась большим, чистым, божественным желанием. Получилось же так, что маленькая человеческая натура была унижена и осквернена.
Но в этот вечер Эмилио насладился. Анджолина заставила его ждать полчаса — целый век. Эмилио показалось, что он ощущает один лишь гнев, гнев бессильный и увеличивающий ненависть, которую, как Эмилио говорил, он испытывал к ней. Эмилио думал о том, чтобы ударить Анджолину, когда она придёт. Не было никаких возможных оправданий, потому что она сама сказала, что в этот день не идёт работать, и потому может быть пунктуальной. Разве то, что она не приняла предложения встретиться прошлым вечером, не давало уверенности в том, что она не опоздает? Анджолина заставила Эмилио ждать перед этим день, и день после, так долго для него.
Но когда она пришла, то Эмилио, уже отчаявшийся её увидеть, был рад собственной удаче. Он стал шептать ей в губы и шею упрёки, на которые она даже не ответила, так как эти упрёки были похожи на молитвы и слова восхищения. В полумраке комната вдовы Параччи превратилась в храм. Долгое время ни одно слово не нарушало мечту. Определённо, Анджолина дала ему даже больше, чем обещала. Волосы её были распущены и раскиданы золотом по подушке. Как ребёнок, Эмилио уткнулся в них своим лицом, чтобы вдыхать запах страсти. Анджолина была умелой любовницей, и (в этой постели он не мог на это жаловаться) очень тонко угадывала его желания. Тут всё превратилось в наслаждение и радость.
Чуть позже воспоминания об этой сцене заставили Эмилио скрежетать зубами от гнева. Страсть на мгновение освободила его от горестного бремени наблюдателя, но не помешала запечатлеться в памяти каждому действию этой сцены. Теперь Эмилио, по крайней мере, мог сказать, что знает Анджолину. Страсть подарила ему неизгладимые воспоминания, на основе которых Эмилио удалось восстановить чувства, которые Анджолина не проявляла, и даже аккуратно скрывала.
Будь у Эмилио холодная голова, всё это ему бы не удалось. Так, теперь Эмилио знал наверняка, как если бы она ему это сама сказала, что у Анджолины были мужчины, которые удовлетворяли её лучше.
Она им чаще говорила:
— Хватит. Я больше не могу.
Эмилио мог бы разделить этот вечер на две части. В первой Анджолина его любила, во второй же она сдерживалась, чтобы не оттолкнуть его. Когда Анджолина встала с постели, то попыталась показать, что устала. Но, чтобы обо всём догадаться, не требовалась большая наблюдательная способность. Увидев, что Эмилио колеблется, она вытолкнула его из постели, сказав шутливо:
— Пойдём, красавчик.
Красавчик! Видимо, это ироничное слово Анджолина задумала сказать ещё полчаса назад. Эмилио прочёл это по её лицу.
Как всегда, Эмилио потребовалось побыть одному, чтобы привести в порядок собственные наблюдения. На мгновение ему пришло в голову, что она ему больше не принадлежит. И это было то же самое чувство, что и тогда, когда он оказался с ней в Городском парке в ожидании Балли и Маргариты. Это была нестерпимая боль раненой любви и горькой ревности. Эмилио хотел освободиться от всего этого, но не мог оставить Анджолину, не предприняв попытку снова сблизиться с ней.
Несмотря на то, что Анджолина сказала, что торопится, Эмилио проводил её до дома. Они прошли по той самой улице, по которой бежал Эмилио в день, когда Анджолину видели с продавцом зонтов. Улица Романья оставалась точно такой же, как и в тот памятный вечер, со своими голыми деревьями, что так чётко вырисовывались на фоне ясного неба, и неровную поверхность улицы покрывала всё та же густая грязь. Но вся разница была в том, что сейчас он шёл по этой улице с Анджолиной. Совсем другое дело!
Эмилио описал Анджолине свой бег по этой улице в ту ночь. Рассказал, как ему казалось, что он видит её перед собой от сильного желания встретиться. Затем Эмилио рассказал, как лёгкая рана от падения заставила его рыдать, потому что это была та самая капля, которая переполнила чашу его терпения. Анджолина слушала Эмилио, прельщённая тем, что вызывает такую любовь. И когда взволнованный Эмилио пожаловался, что так сильно страдал, но не получил всего желаемого от своей любви, Анджолина пылко возразила:
— Как ты можешь такое говорить?
Для убедительности она его поцеловала. Но потом Анджолина всё же совершила ошибку, как всегда после чего-то правильного:
— Разве я не отдана Вольпини, чтобы быть твоей?
И Эмилио склонил голову сокрушённо.
Этот Вольпини, не зная Эмилио, отравлял ему жизнь. Вместо того чтобы страдать от безразличия Анджолины, услышав имя Вольпини, Эмилио охватил страх за Анджолину и за те планы, что по его подозрению она вынашивала. При следующей встрече Эмилио сразу же спросил, какие гарантии получены Анджолиной от Вольпини для того, чтобы отдаться ему.
— О, Вольпини больше не может жить без меня, — ответила Анджолина смеясь.
На минуту и Эмилио успокоился, и ему показалось, что этой гарантии вполне достаточно. Ведь и он сам, будучи настолько моложе Вольпини, тоже уже не мог жить без Анджолины.
Во время второго свидания наблюдатель в Эмилио не засыпал ни на одну минуту. За это он был вознаграждён горьким наблюдением: пока Эмилио с таким нетерпением ждал следующей встречи, кто-то занимал его место. Это был некто, кто не был похож ни на одного из мужчин, кого Эмилио знал и боялся. Это был не Леарди, не Джустини и не Датти. От этого человека Анджолина переняла очень грубую игру слов и манеру выражаться. Наверное, это был студент, потому что Анджолина очень непринуждённо оперировала разными латинскими словами и оборотами с гнусным смыслом. Эмилио подумал о несчастном Мериги, но понял, что не может его подозревать. Как Анджолина могла знать латынь без того, чтобы не похвастать ею в течение такого долгого времени! Напротив, тот, кто привил ей латынь, должен был быть тем же человеком, что и тот, кто научил её вольным венецианским песенкам. Пела она их неумело, но, всё же, чтобы их исполнить, она должна была услышать их несколько раз. Однако Анджолина никогда не пыталась спеть ни одной ноты из песен, услышанных ею от Балли. Наверное, это был венецианец, потому что Анджолина часто предавалась подражанию венецианского произношения, с которым ранее она, вероятно, не была знакома. В коллекции фотографий Анджолины не появилось ни одного нового лица. Возможно, новый соперник Эмилио не имел привычки дарить свои фотографии, или, может быть, Анджолине казалось лучшей тактикой не выставлять новые фотографии, собиранию которых была посвящена её жизнь. Также правда и то, что на стене её комнаты не было и фотографии Эмилио.