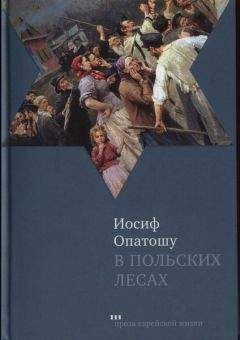Сына мать учила, подстрекала:
«Бей жену, сынок, чтоб уважала». —
«Ой, как плетку, матушка, возьму я,
Накажу я женку молодую».
Хата криком ввечеру гудела,
В полночь старая кровать стонала,
А с зарей Гануля не дышала...
Тут певица замолкла, вдела в иглу нитку, на миг устремила на огонь серые блестящие глаза и снова склонилась над шитьем, затянув свою заунывную песню:
«Мати, мати, покойница в хате,
Научи, где женку зарывати?» —
«Отвези Ганулю в чисто поле,
Скажут все: Гануля просо полет,
Да скачи на рынок сам, в Яново...»
А в Янове Ганулины братья,
Ходят, смотрят, спрашивают зятя:
«Ты куда девал сестрицу нашу?»
Воротился: «Слуги, поспешайте,
Вороного мне коня седлайте,
Ой, поеду в поле я к Гануле.
Дайте скрипку громкую мне в руки,
Заиграю о тоске-разлуке,
Будь ты, мать...»
С протяжным скрипом отворилась дверь из сеней, Петруся оборвала песню и, повернув голову, увидела Шимона. Она хорошо его знала и не удивилась его приходу. Возможно, он пришел по делу к ее мужу. Петруся приветливо кивнула головой.
— Добрый вечер, Шимон. Как живете?
Он не отвечал; пошатываясь, прошел несколько шагов, встал прямо перед ней и, разинув рот, уставился на нее. В выцветших глазах его так перемешались выражение ужаса и любопытства, дикой жадности и пьяного умиления, что он выглядел одновременно страшным и смешным. Из его разинутого рта в лицо Петрусе пахнуло водкой. Засунув руки в рукава тулупа, он нагло, хотя и робея, начал:
— Петруся, я к тебе с просьбой...
— А чего вы хотите? — спросила она.
— Кабы ты мне денег одолжила... Я нынче к мировому ходил в суд... «Долги, говорит, надо платить... Землю, говорит, продадут...» — «Не продадут, говорю, она и не выкуплена, у казны, стало быть, не выкуплена». А он, чтоб ему ноги повыломало, говорит, долги надо платить... Я к старшине...
Так он говорил добрых пять минут, по нескольку раз повторяя одно и то же. Она терпеливо его слушала, занятая шитьем, наконец подняла голову и спросила:
— Так чем же я-то тебе могу помочь?
— Одолжи денег, — подступив ближе, повторил мужик.
— Нету у меня, ей-богу нету, да и откуда у меня могут быть деньги? Это и все знают, что в мужнину хату я в одной юбке да в рваном кафтанишке пришла... И у него нету, хоть побожиться, нету. В хате-то всего вдоволь, слава богу, а денег нету... Мы еще оба молодые... когда нам было деньги копить?
— Врешь! — заворчал мужик. — Денег у тебя — сколько душа твоя пожелает, девать некуда.
И, сменив ворчливый тон на молящий, прибавил:
— Одолжи, Петруся, смилуйся, одолжи... Ну что тебе стоит? Ты только скажи своему дружку, чтоб он тебе побольше принес, он сейчас и принесет...
Женщина устремила изумленный взгляд на лицо мужика, окрасившееся под воздействием водки и волнения кирпичным румянцем.
— Да ты никак одурел? — проговорила она. — Это какой же дружок мне деньги станет носить, сколько душе моей угодно?
Шимон поднес руку ко лбу, словно собирался перекреститься, и, боязливо понизив голос, с туповатой ухмылкой сказал:
— А черт? Га? Или он денег тебе не носит? Га?
При этих словах женщина, как ошпаренная, вскочила со скамейки и, широко раскрыв глаза, протянула руки вперед, словно для защиты.
— Что ты болтаешь? — крикнула она. — Опомнись, Шимон, побойся ты бога...
— А-таки носит, — подступив еще ближе и не сводя с нее глаз, упорствовал мужик.
Она торопливо и очень громко проговорила:
— Я в костеле крещеная! Меня каждый день на ночь святым крестом благословляли! Я никаким смертным грехом души своей не губила.
— А-таки носит! — уже стоя вплотную перед ней, повторил мужик. Я нынче сам видал, как он, весь огневой, через трубу к тебе в хату влетел...
На этот раз в широко раскрытых глазах женщины мелькнул испуг.
— Врешь! — крикнула она, и чувствовалось, что она страстно хотела, чтобы он отказался от своих слов.— Врешь! Скажи, что соврал!
— Как бог свят, видал...
Он ударил себя кулаком в грудь и снова пристал к ней:
— Одолжи, Петруш, смилуйся, одолжи... Я и на бесовские деньги соглашусь, только бы мне вылезти из горькой моей нужды... дай хоть бесовских...
Он наступал на нее, подталкивал к стене, придвигая к самому ее лицу свое лицо, от которого разило водкой.
— Я к тебе, как к родной матери... Ты хоть и ведьма, а я к тебе, как к матери... Спаси... Пусть уж и на меня падет этот грех... Поделим с тобой и деньги и грех... Я к тебе, как к матери, к заступнице... Ты хоть и ведьма, а я к тебе все равно, как к заступнице...
Гнев, ужас, отвращение охватили Петрусю, прежде всего отвращение к этому пьянице, который своим пороком поверг в нищету жену и детей, а над ее крышей увидел летящего черта; в ней проснулась вся ее недюжинная сила. Глаза ее засверкали, она топнула ногой и крикнула:
— Вон! — затем схватила мужика за шиворот и, отворив дверь, вытолкнула его в темные сени. Впрочем, это было не трудно: Шимон едва держался на ногах. В сенях он покачнулся, вылетел во двор и оттуда снова закричал:
— Не дашь? Так и не дашь денег?
Но кузнечиха уже задвинула дверь железным засовом. Мужик обошел хату и, стоя под заиндевевшим окном, то выкрикивал, то бормотал:
— Я к тебе... ах ты, ведьма... как к матери... дай денег... смилуйся... ну, хоть бесовских дай... не дашь? Так и не дашь? Петруся! Слышишь? Мировой говорит: «Долги надо платить...» Я к старшине... Старшина говорит: «Землю не продам, а хозяйство продам... в одной рубахе останешься...» Ой, горькая доля моя и деток моих. Петруся, слышишь? Дай денег... Что тебе стоит? Дружок твой принесет тебе еще, сколько захочешь... Не дашь? Так и не дашь? Ну, так погоди же, я тебе задам, пропащая твоя душа... вероотступница... черту продалась... попомнишь ты меня.
Пошатываясь, он медленно побрел по тропинке, ведущей к корчме и к деревне, сжимал кулаки и, потрясая ими, то гневно выкрикивал, то угрюмо бормотал:
— Не дала! Ведь не дала-таки! Пропащая ее душа!.. Богоотступница... Черту продалась... Я ей задам... Попомнит она меня...
Уже два или три месяца Петруся не ходила в деревню. Ужас охватывал ее при мысли о встрече с людьми, да и бабка не раз ей твердила, чтобы она притаилась, как рыбка на дне реки. Однако через неделю после необычайного посещения Шимона ей понадобилось пойти к Лабудам. Нужно было непременно отнести Лабудовой нитки, напряденные Аксеной, чтобы задержкой не навлечь на нее недовольства и упреков. В сумерки, когда кузнец еще работал у себя в кузнице, Петруся сказала бабке:
— Пойду, бабуля, сегодня во что бы то ни стало пойду к Лабудам.
Решение внучки, видно, было не по душе старухе; однако, с минуту помолчав, она сказала:
— Что ж, коли надо, иди... только не лезь там никому на глаза... пройди за гумнами.
— Пройду за гумнами, — повторила Петруся..
Она надела кафтан и башмаки, повязала голову платком и ушла.
Аксена осталась с детьми почти в полной темноте; сидя с ними на печке, она принялась рассказывать сказку о крылатом змее. Это была длинная и страшная сказка, затем последовала другая, до того смешная, что двое старших детей так и покатывались со смеху и хохотала даже младшая Еленка, хотя еще не могла ее хорошенько понять. Вдруг маленький Адамек захныкал в люльке. Аксена велела Стасюку слезть с печки и покачать братца. Мальчик спустился вниз, взобрался на топчан, возле которого стояла люлька, и вскоре в темной горнице мерное постукивание полозков завторило скрипучему голосу бабки, рассказывавшей уже третью сказку. Вдруг за окном, а затем в сенях послышались быстрые шаги, гулко хлопнув, распахнулась дверь и, должно быть, осталась открытой; в горницу порвалась струя морозного воздуха, и в темноте раздался приглушенным крик, сдавленным ужасом и отчаянием:
— Иисусе! Спасите! Ой, горе мне! Бьют! Уже палками бьют! Господи милостивый!
Это был голос Петруси; в ту же минуту посредине горницы что-то с силой ударилось: верно, это она рухнула на пол. Аксена, онемевшая на мгновение, спросила дрожащим голосом:
— Да что с тобой, Петруся? Что с тобой? Господи, смилуйся над нами! Что с тобой?
Испуганная криком и стуком упавшего тела, закатилась плачем трехлетняя Еленка. Адамек тоже захныкал.
Сквозь громкий плач детей донесся сильный, повелительный голос слепой бабки:
— Не дури, Петруся. Зажги свет. Дети впотьмах плачут.
Подавляя стоны, женщина с трудом поднялась с пола, вздула огонь и трясущимися, как в лихорадке, руками воткнула горящую лучину в щель над печкой. В колеблющемся свете разгорающегося огня ее бледное как полотно лицо с нахмуренным, собравшимся крупными складками лбом и пылающими глазами четко, словно вырезанное, выделялось на сером фоне хаты. Платок свалился с ее головы, спутавшиеся волосы закрыли шею и сбились над лбом; только две слезники блестели у нее на ресницах, по глубокие рыдания сотрясали ее грудь. Осветив горницу, Петруся обеими руками схватилась за голову и как безумная заметалась из угла в угол. То, раскинув руки, она останавливалась посреди горницы с широко раскрытыми глазами, то билась головой о стол или лавку, то, припав к печке, как бы с мольбой простирала руки к бабке. При этом она все время говорила, как говорят в бреду, быстро, бессвязно, вдруг что-то выкрикивая и снова понижая голос до шепота. Так она рассказывала о случившемся сегодня, а Аксена, слушавшая на своем сеннике, выпрямилась, как струна; челюсти ее под желтой кожей двигались все быстрее, костлявые руки невольно искали головы маленьких правнучек, а те замолкли, но в испуге сами льнули к этим рукам и прижимались к старческой груди. Петруся рассказывала, что к Лабудам пришла благополучно, отдала нитки, всем поклонилась, как подобает, но, не вступая в разговоры, тотчас пошла назад той же дорогой. Тут ее уже подкарауливали: видно догадались, что она будет возвращаться этим же путем. Подстерегали ее в саду за плетнем, а плетень-то низкий, и, когда она проходила, кто-то ударил ее палкой по спине, раз и другой, да с такой силой, что она упала наземь. Ударил ее Шимон Дзюрдзя; хоть и в темноте, но она его узнала, а из-за его спины смеялся Степан, а Параска, жена Шимона, что-то кричала про деньги и какую-то юбку, а Розалька проклинала ее и обзывала ведьмой; были там еще двое или трое, и они тоже смеялись и кричали, но кто это — она не знает, потому что вскочила с земли и что было духу побежала. А они перелезли через плетень и не стали удирать, а, не спеша, как ни в чем не бывало, пошли по тропинке к корчме. Били! Уже били палками! Что же теперь делать? И за что на нее такая напасть?!