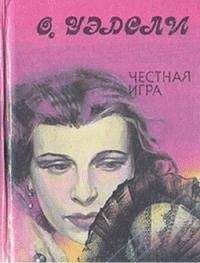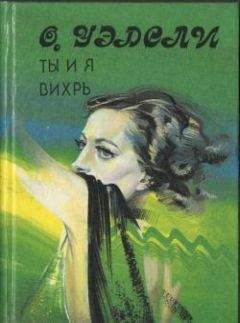О, если б быть снова свободным, смело смотреть в глаза всем женщинам и весело смеяться! Вырваться из сети, которая была вначале шелковой, а теперь, казалось, превратилась в стальную, петли которой все крепче затягиваются, и из которой уже нет спасения.
О, вернуться на два года назад, жить снова дома, свободным как ветер, спокойным, без гроша, но и без угрызений совести!
Леонора сидела молча, и мысли Тедди продолжали бродить.
Ах, эти первые подарки, сделанные ему Леонорой! Он сопротивлялся, протестовал, его бросало в жар от того, что женщина покупала ему такие дорогие вещи… Но это не помогало… А следующий подарок, казалось, уже не так трудно было принять… Затем платье… эти чудные белые жилеты, стоящие черт знает сколько денег, халат из фуляра, или из чего там он был сшит; во всяком случае, он был шелковый и из лучшего магазина… Целая масса дребедени, того, другого… И все это было чечевичной похлебкой, как в той книге, которая произвела на него такое потрясающее впечатление… Что ж, он хорошо продал свое право на свободу… можете быть в этом уверены! Променял его на глупые, носильные вещи, мебель… поездки в автомобиле… лошадь, а вот теперь наступил последний обмен, и он скоро расквитается с Леонорой!.. Взамен всего того, что покупается, он собирается отдать единственно бесценное — свою жизнь, свой труд и свободу…
— Вот так забавно! — резко сказала Леонора, выпуская его руку. — Лучше беги одеваться… Право же, ты выглядишь очень неважно.
— Мне кажется, я простудился, или что-то в этом роде, — пробормотал Тедди, сознавая, что он согрешил, и ясно отдавая себе отчет в своих мыслях и настроениях.
Леонора, стоя перед ним, потрепала его по щеке. Она ни минуты не сомневалась, что, решившись на безвозвратный шаг, она сумеет делать из Тедди все, что захочет; она допускала, что письмо мужа и ее собственное обращение к Тедди несколько нарушили его душевное равновесие, и была готова отнестись снисходительно к его рассеянности.
«Я могу подождать!» — сказала она себе с внутренним удовлетворением.
Она захватила кончики Теддиных ушей между большими и указательными пальцами и встряхнула его голову, как встряхивают голову терьера.
— Иди и… выпей что-нибудь… капризуля!.. и одевайся!.. и подбодрись!.. Ну? Хорошо?
Наклонившись, она поцеловала и отпустила его.
— Беги!
Он пошел, ступая довольно тяжело; вся жизнерадостность его исчезла.
Маунтли, с трудом справляясь с гримом, радостно приветствовал его:
— Это было подло оставлять меня одного! Иди сюда и помоги мне. Взгляни на мою физиономию!
Тедди взглянул и широко ухмыльнулся.
— Ты выглядишь, как настоящий петрушка! — сказал он, принимаясь снимать румяна, украшавшие не только щеки, но и подбородок Маунтли.
Покончив с этим делом, они выпили, и Тедди почувствовал себя чуточку лучше.
Несмотря на все его горе, когда он оделся и загримировался, настроение вечера захватило его. Он принял участие в общем веселье, забывая на время свое несчастье. Обед прошел очень весело. На Филиппе был подлинный костюм эпохи Людовика XVI из блеклого атласа, цвета слоновой кости, с вышитыми гладью розами и гиацинтами; на голове был соответствующий костюму белый парик.
Джервэз оделся сербом, хотя, по выражению Филиппы, «скорее походил на палача» в своем высоком черном воротнике. Во всяком случае, костюм был очень эффектен, и Джервэз выглядел в нем гибким и как бы помолодевшим. Разерскилн и Кит выполнили свою угрозу и явились шейхами; Леонора была очень красива, как несколько модернизованная Клеопатра; Кардоны, знакомые Сэмми, были Шерлоком Холмсом и Ватсоном; Камилла Рейкс с дочерью и сыном удачно изображали венецианских вельмож, в шляпах из картона, которые они выкрасили и смастерили сами; на мальчике были длинные шелковые чулки сестры, шелковые дамские панталончики и шелковая туника.
После обеда начался съезд, и «интимный костюмированный вечер» обратился в настоящий бал. «Всерьез», как выразился Маунтли. Тедди и он имели большой успех; их накрахмаленные красные с синим мундиры и белые панталоны не смялись, и грим детских игрушек держался отлично.
В два часа оркестр заиграл шотландскую народную песню «Auld Lang Syne». Тедди стоял несколько поодаль от Филиппы, но при первых звуках подошел и взял ее за руку. Он не подумал, что это может привлечь внимание; ведь это был его последний вечер. Он почувствовал это с внезапной остротой, когда все запели; видя всех кругом такими счастливыми и беспечными, он полагал, что никто, кроме него, не чувствовал себя так среди этого веселья.
Когда пение кончилось, он все еще стоял, рука об руку, рядом с Филиппой, пока Джервэз не подошел и Филиппа не пошла с ним танцевать.
«В самый последний раз!»
Самый последний! Эти слова звучали в мозгу Тедди; все сегодня было в самый последний раз. Леонора подошла и сказала ему на ухо:
— Почему такой бледный и вялый? — и увлекла его за собой, заставив танцевать.
Они прошли мимо Джервэза и Филиппы; холодно и сердито оглянув Тедди, Джервэз спросил:
— Что, этот молокосос снова пьян?
— Кто? Тедди? — спросила Филиппа, подняв брови, что она неизменно делала, когда бывала озабочена. — Не думаю. Почему?
— Я полагаю так, судя по тому, как он вел себя во время пения, — ответил Джервэз.
— Но, милый, — начала было Филиппа, слегка засмеявшись, но остановилась. Смех ее замер: Джервэз, весь бледный от гнева, смотрел на нее сверху вниз. — Ты глубоко ошибаешься, — мужественно сказала она, отвечая на его взгляд и выдерживая его.
Фехтовать долее было бесполезно; защитные шарики соскочили, наконец, с рапир. Заглушенный от ярости голос Джервэза был едва слышен:
— Полагаю, что вряд ли ты станешь отрицать, что Мастере влюблен в тебя…
— Он думает, что влюблен… но, Джервэз… — Музыка прекратилась и после короткой паузы заиграла «Короля».
Все бросились прощаться.
Филиппа машинально слушала, улыбалась, отвечала; голова ее была полна тревожных мыслей, опасений, гнева и какого-то отвращения, смешанного с изумлением: чтобы Джервэз так вспылил и фактически обвинил ее в сообщничестве! «Полагаю, что ты вряд ли станешь отрицать, что Мастере влюблен в тебя»…
Это сказал Джервэз, но не тот Джервэз, которого она знала.
Она чувствовала в одно и то же время негодование, оскорбление и жалость.
Джервэз изменился, так ужасно изменился…
Наконец, все уехали, остались только гостившие. Последние рюмки допиты, раздаются последние смешки; все уже совсем сонные…
Тедди подошел пожелать спокойной ночи. Из-за грима трудно было сказать, был ли он действительно разгорячен; он улыбался и выглядел довольно глупо.
Он салютовал Филиппе с притворной церемонностью; подошедший Маунтли присоединился к нему, и они очень забавно имитировали деревянных солдатиков Балиева.
Все напевали этот мотив, подымаясь наверх.
Придя в свою спальню, Филиппа присела, не раздеваясь, как будто ждала чего-то.
Она услышала шаги Джервэза в коридоре, его голос, последнее «спокойной ночи»; его дверь открылась и закрылась; теперь он был в своей комнате. Смежная дверь тотчас же широко распахнулась, и он показался на ее пороге. Филиппе почудилось, что он ее поманил; она встала и подошла к нему:
— Джервэз, что это?
Вместо ответа он схватил ее в свои объятия и держал так крепко, что она едва могла дышать.
— Видишь ли, нам надо это выяснить. Я уже много месяцев знаю, что Мастерс влюблен в тебя, и ты это тоже знаешь. Ты его пригласила сюда. Я хочу знать правду. Был ли он когда-либо чем-нибудь и есть ли он что-нибудь для тебя? Мне всё равно, как бы ты ни сердилась, мне безразлично, что ты будешь думать обо мне, — я хочу знать.
Филиппа как бы окаменела в его руках; с усилием закинув голову, она взглянула ему в глаза с выражением такого же гнева и горечи.
— Мне кажется, ты сошел с ума, — сказала она, — или… или пьян не Тедди. Джервэз, ради всего на свете… как, как можешь ты…
Он мрачно держал ее.
— Да, я слушаю тебя. Отвечай.
— Я не могу дать тебе ответа, да и не может быть ответа на такой вопрос. Ты был везде, где был Тедди, я хочу сказать — ты все знал. Ничего не было потайного, ничего и не было сказано им…
Джервэз перебил ее:
— Ничего не было?.. Так ли?..
Все накопившиеся за последние месяцы подозрения кишели в нем теперь, отравляя его взгляды, делая его слепым к истине.
Он увидал, как гневно вспыхнули глаза Филиппы при его вопросе: «Ничего не было?.. Так ли?..»
И его безумная ревность, как хищный зверь, яростно устремилась на свою добычу. Он опустил руки так внезапно, что Филиппа пошатнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за колонну кровати.
— Значит, я был прав, — сказал он, задыхаясь. Возмущение Филиппы было так сильно, что она с трудом могла выговаривать слова; они выскакивали, отрывистые, полусвязные: