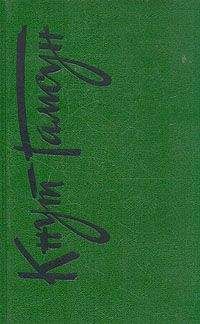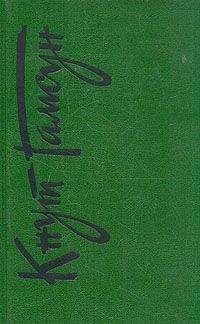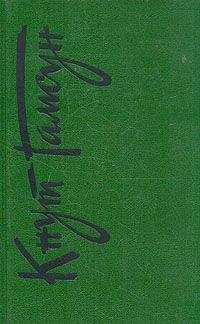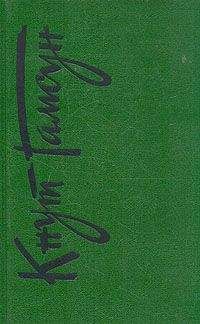Хартвигсен остановился у своего поворота.
— Идите же к своей супруге, — сказал я. — Она вас заждалась.
— Да, бедная Роза, — ответил Хартвигсен и посмотрел в сторону дома. — Весь день искала меня, говорите? И как же ребёнок? Но Николай-то какой стал из себя, аж не узнать. Бесподобно! И я так решил — чем ему ждать этих денег, я прямо всё ему и отдам. Я уж ему обещался. И сегодня же будет сделано.
Дома мне не сиделось, я и нигде-то не находил себе места, я всё бродил, и я видел, как Хартвигсен ещё раз прошёл к кузнецу. «Это чтобы деньги отдать Арентсену!» — подумал я. На другой день к вечеру я опять спустился к пристани и надеялся ещё кое-что разузнать, проходя мимо дома Розы. Но ничего я не разузнал, Роза стояла у окна с ребёнком на руках, она была весела, спокойна, она высоко подняла ребёнка, когда я шёл мимо, а я приподнял картуз и подумал: «Слава Богу, кажется, обошлось!». И пошёл дальше, к пристани.
На длинной набережной стоял Хартвигсен и разговаривал с кузнецом, бондарь что-то объяснял двоим рабочим, так что, кроме меня, тут сошлось пятеро. Хартвигсен разговаривал с кузнецом про его гостя, его очень занимал Николай Арентсен, тот произвёл на него самое благоприятное впечатление.
— Вот стою, рассуждаю с кузнецом про его постояльца! — сказал мне Хартвигсен. — Я вчера ему кой-каких деньжат снёс, уж он меня благодарил, оченно остался довольный. Это не мой долг был ему платить, это Мака был долг, а не мой. Ну, да ладно. Не обедняю. Он теперь дома?
— К матери своей пошёл, — ответил кузнец.
Хартвигсен продолжает про Арентсена:
— И ведь вспомнил вчера меня поздравить с сынком. Бесподобный человек, право слово!
— И правда, — сказал кузнец.
Добряк этот Хартвигсен, он был так удивлён и обрадован, что Арентсен не предъявлял никаких прав на Розу, что сердце его окончательно переполнилось.
— Учёный человек, все науки превзошёл, — сказал он.
И снова кузнец закивал головой:
— Вот уж правда истинная! И тут Хартвигсен сказал:
— Я бы с удовольствием, чтоб он у меня был домашним учителем.
Оба мы с кузнецом не знали, что на это ответить, и Хартвигсен переводил взгляд с одного на другого.
— За ценой бы я не постоял, да и вкусно покушать в моём доме всегда можно.
— Для него бы не худо, — сказал кузнец. — А вы уж ему закинули словцо?
— Нет ещё.
— Пожалуй, и не стоит, — сказал я.
— Да? Ну, не знаю, не знаю. Ведь я и кого похуже чуть не нанял, как теперь погляжу. Здесь-то учёность по всем статьям.
— Поговорите лучше с вашей супругой, — сказал я.
— Да я уж и говорил, — сказал Хартвигсен. — Какое! И слышать не хочет'. Чтоб ноги его в доме не было, говорит. Ну, это она через край хватила. Дамский пол — он всегда с капризом, а моей супруге — ей только меня одного подавай.
Вдруг на набережную выходит сам Николай Арентсен. Мы все приветствуем его ещё издали, и Арентсен нам отвечает. В нём не заметно ничего необычного.
— Хотите поучиться самоубийству, ребята? — говорит он.
Мы не нашлись с ответом, но кузнец знал его лучше, он решил, что это обычные его шутки, и ответил:
— Самоубийству? Оно бы и в самый раз.
И тут Арентсен разбежался и спрыгнул с набережной.
— Да что же это!.. — мы смотрели друг на друга, на бухту.
Бухта не замерзала всю зиму, была только тонкая корочка льда, человек пробил в ней дыру своей тяжестью и исчез в мгновение ока. Кто-то высказал предположение, что он решил искупаться, но погода и время года были вовсе для этого неподходящие, кузнец понял, что случилась беда, и кинулся вниз по лестнице, к лодке. Остальные ещё не могли опомниться, потом Хартвигсен крикнул бондарю, чтоб спускался с ним в другую лодку.
На двух лодках мы искали баграми, и кое-кто среди нас это умел, час искали, два искали — всё напрасно! У набережной-то было мелко, но, видно, подводным течением дальше и дальше уносило Арентсена, на глубину, а там сажен десять. Когда стемнело, пришлось нам оставить поиски.
— А ведь так я и знал! — сказал кузнец на возвратном пути. — Уж больно он чудно говорил. Давеча я спросил, за что он теперь примется. «Ни за что не примусь, — говорит, — я давно взял полный расчёт», — говорит. «Но у вас ведь деньги теперь завелись», — я ему говорю. «А это, — говорит, — материны деньги». Нынче ещё утром сказал: «Ты уж приходи через часок на пристань!» — «Беспременно, — говорю, — приду». А он шляпу надел — и к матери.
Мы задумались и примолкли. Хартвигсен дошёл до своего поворота и распрощался с нами. Мы с кузнецом пошли дальше.
Я всё думал про Николая Арентсена, и я спросил:
— Что ещё говорил он вам, ведь вы много с ним разговаривали? Что он вчера вам сказал, когда повидался с Розой?
— А ничего, почитай, и не говорил. Что ему Роза? Они у меня жили обои, когда поженились. Нет, он сказал только, что вот, мол, я и встретил Розу и слегка её поскрёб скребницей. Он вечно эдак загнёт. А теперь, мол, я испытываю удовольствие, какое и всегда человек испытывает, когда ловко обставит кого-то. Его слова. А больше он ничего не сказал. Однако — сперва мать обеспечил, а потом уже в воду.
Проходит недели две, жизнь снова входит в свою колею. Я уже решил: весною я уйду к Мункену Вендту и буду с ним странствовать вместе. Я бы и сразу, я сейчас бы ушёл, да баронесса меня уломала остаться и девочек подослала меня упросить. И вот идёт день за днём.
От Розы нет никаких вестей. А ведь как она меня во всё посвящала, да и последних событий я был отнюдь не сторонний свидетель. Но у неё нет больше потребности со мною делиться.
Роза совсем оправилась, кажется, она весела и довольна, с тех пор как исчез Николай Арентсен, её не точит никакая забота. Она живёт с ребёнком и мужем. Словом, всё к лучшему!
Хартвигсен тоже, кажется, совсем успокоился, он не жалуется уже, что Роза всё чего-то боится, напротив, он не нахвалится, как она к нему добра, и только посмеивается над её вечными напоминаниями, чтобы он потеплей одевался. Да и на ребёнка, шумного, чудного мальчика в коротенькой рубашонке, он не нарадуется.
Как-то Хартвигсен мне говорит:
— Вы только не пугайтесь, но вот-вот вы получите одно извещение.
— Что за извещение? — говорю я.
— Не печальное, уж будьте удостоверены, а так, шалая мысль одна завелась в одной голове — кое-что учинить, как говорится, по такому случаю. Больше я ничего не скажу!
Но поскольку я не выказываю никакого любопытства и ни о чём не расспрашиваю, Хартвигсен продолжает:
— Хочется потешить мою супругу, да и себя самого. И окромя прочего, ребёночка окрестить пора.
«Пир!» — подумал я.
— Нечего вам гадать! — сказал Хартвигсен и расхохотался, добродушно посверкивая жёлтыми большими зубами. — Об заклад буду биться — не догадаетесь!
Ночью я опять встаю с постели и проделываю старую свою, напрасную прогулку к пристани. У Розы в спальне горит ночник, верно, ради младенца. Всё спокойно. «Доброй ночи! — думаю я. — Господи, хоть бы завтра она за мною послала!».
С утра я никакого приглашения не получил, но Хартвигсен шёл в лавку, я увидел его и тоже туда пошёл. «Может быть, она его просила меня позвать?» — подумал я. Хартвигсен снова принялся за вчерашнее и подпустил ещё несколько туманных намёков о том, что он намерен на днях предпринять. Тут я спросил:
— Дома у вас всё благополучно?
— Спасибо, спасибо, — ответил он. — Вы ведь и ребёнка ещё не видели, что так? Моя супруга всё интересуется.
И я пошёл к Розе. Я на ребёнка иду посмотреть, сказал я сам себе. Визит этот мой был недолгий, ах нет, совсем был короткий визит, но привёл к окончательной ясности.
Роза сияла бодростью и свежестью, ничего не осталось от прежней её печали. Она спросила, куда это я подевался. Уж не ребёнок ли на меня страху нагнал? «Пойдёмте, я вам его сейчас же и покажу!».
Я поднялся с нею наверх. Там сидели старая няня и Марта. Они хотели уйти, но Роза сказала:
— Нет-нет! Сидите, мы только взглянуть на принца!
Принц спал. Да, настоящий принц, крупный, хорошенький, в белом чепчике. Он чуть-чуть пошевеливал пальчиками. Роза на него смотрела не отрываясь, она наклонила голову к плечу и всё смотрела на него. Я сказал несколько слов, по-моему, подходящих к случаю, и подержал его за ручку.
И мы снова спустились.
— Ну, рады вы теперь? — спросил я.
— Да, теперь рада.
Меня чуть-чуть покоробило, не от зависти, нет, просто мне стало обидно, что Роза так рада. Видит Бог, я от души желал ей добра, но мне хотелось в ней видеть и к другим хоть немного сочувствия. И вот я сидел у неё и огорчался её счастью.
— А вы, верно, бывали в Торпельвикене с тех пор, как мы вас не видали? — спросила она и засмеялась.
— Нет, — только и сказал я.
Она заметила, что я обижен, тотчас сделалась серьёзна и решила свернуть на другое: