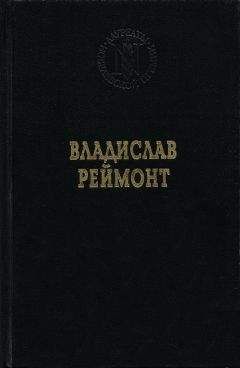Она была очаровательна в своем весеннем английском костюме, в большой черной меховой пелерине с воротником а-ля Медичи из страусовых перьев, в огромной черной шляпе, из-под которой дивные ее глаза сияли, как два сапфира.
Романтичная встреча с любовником приводила ее в восторг.
Встречаться с ним в городе Люция не хотела, она жаждала чего-то необыкновенного, жаждала тревог, волнующего трепета. Потому и придумала это свидание в роще и теперь всей своей истомившейся от скуки душой наслаждалась им, не обращая внимания на молчаливость Кароля, который отвечал ей односложно и часто поглядывал на часы.
Что ей до того! Кароль шел рядом, в его ответных поцелуях порой было столько страсти, что глаза ей застилал белесоватый туман; она могла говорить ему о своей любви, могла ежеминутно падать в его объятья и ощущать сладкое волнение, пронизанное страхом, что их могут увидеть.
То и дело она испуганно озиралась по сторонам — стоило деревьям вдруг зашуметь сильнее или воронам с карканьем взлететь с ветвей и устремиться к городу, как Люция с возгласом ужаса, вся дрожа, прижималась к Каролю, и ему приходилось успокаивать ее поцелуями и увереньями, что они тут в полной безопасности.
— Карл, у тебя есть револьвер? — спросила она.
— Да, есть.
— Достань его, золотой мой, единственный. Видишь ли, мне тогда будет спокойней. Ты же никому не отдал бы меня, правда? — шептала она, прижавшись к нему.
— Конечно, не беспокойся. Но чего ты боишься?
— Сама не знаю чего, но очень боюсь, очень! — И глаза ее быстро скользили по роще.
— Здесь нет убийц, даю тебе слово.
— Ну да, я недавно читала, что в этой роще убили рабочего, который возвращался с работы, я точно знаю, что тут убивают. — И она нервно содрогнулась.
— Будь спокойна, со мной тебе ничто не грозит.
— Я знаю, ты, наверно, очень храбрый. Я люблю тебя, Карл, поцелуй меня, только крепко-крепко.
Он начал ее целовать.
— Тихо! — воскликнула она, отрываясь от его уст. — Кто-то зовет!
Никто не звал, роща шумела, деревья медленно, как бы автоматически, раскачивались, самые высокие из них, казалось, разгоняли верхушками клубы тумана, плывшего с полей все более угрожающе, но постепенно редевшего, так как дождь припустил и капли сыпались на рощу, будто крупные зерна, громко барабаня по жестяной крыше ресторана.
Кароль раскрыл зонт, они, спасаясь от дождя, стали под дерево.
— Ты промокнешь, я очень жалею, что ты вышла в такую ненастную погоду.
— Ах, Карл, мне это так нравится!
Она сняла перчатку и подставила под дождь тонкую белую руку.
— Еще простынешь и захвораешь.
— Вот было бы хорошо, я бы лежала в постели и могла бы все время думать о тебе.
— Да, но тогда я не смог бы с тобою видеться.
— Раз так, не хочу болеть. Я уже целых три дня не видела тебя и не могла выдержать, мне непременно надо было с тобою встретиться. А ты — ты думаешь обо мне?
— Приходится, потому что не могу думать ни о чем ином.
— Как это чудесно. Ты меня еще любишь, Карл?
— Люблю. Неужели ты сомневаешься?
— Я тебе верю, верю, что ты будешь меня любить всегда.
— Всегда.
Кароль старался говорить ласковым тоном и придать лицу счастливое выражение, но удавалось это не слишком хорошо — гамаши у него промокли, в галоши набралось воды и грязи, вдобавок его ожидало сегодня так много работы.
Они провели вместе около часа, она решила возвращаться лишь тогда, когда ее лицо и руки настолько озябли, что Каролю пришлось их отогревать поцелуями, а когда он, прощаясь, спросил, действительно ли у нее было важное дело, о котором она говорила по телефону, Люция бросилась ему на шею.
— Я люблю тебя, вот это я хотела тебе сказать, я хотела тебя увидеть!
Она ушла, но не сразу — все возвращалась, чтобы еще раз попрощаться и уверить в своей любви и просить, чтобы он не выходил из леса, пока она не сядет в экипаж, ожидавший ее на улочке за заборами.
Когда Кароль наконец сел в коляску, со всех сторон уже подавали свой голос гудки, возвещая обеденный перерыв, и он приказал побыстрее ехать в контору.
Там он застал только Бухольца и Горна, остальные ушли на обед.
— Вы говорите со слишком большим апломбом, — пробормотал Бухольц, вытягиваясь в кресле.
— А я иначе не умею говорить, — огрызнулся Горн.
— Придется научиться, я такого тона не терплю.
— А мне это «шваммдрюбер»[21], пан президент! — Горн говорил почти спокойно, только нервно подрагивал рот да голубые глаза вдруг потемнели.
— Да вы с кем говорите? — Бухольц слегка повысил тон.
— С вами, пан президент.
— Пан Горн, я вас предупреждаю, я, знаете ли, терпеньем не отличаюсь, я вам…
— Мне незачем знать, отличаетесь ли вы терпеньем или нет, меня это не касается.
— Не перебивайте, когда я говорю, когда Бухольц говорит!
— А я не понимаю, почему Бухольц не может помолчать, когда говорит Горн.
Бухольц подскочил в кресле, но лишь застонал от боли — с минуту он гладил укутанные ноги и тяжело дышал, затем прикрыл глаза и, хотя весь дрожал от злости, хранил молчание, подавляя гнев.
Между тем Горн, который вполне сознательно и даже с известной методичностью старался рассердить Бухольца, сложил книги, с самым невозмутимым видом собрал свои карандаши, ластики и ручки, завернул их в бумагу и сунул в карман.
Все это он проделывал очень медленно, поглядывая на Боровецкого, который, дивясь такому его поведению и этой невообразимой ссоре, не знал, как поступить. Стать на сторону Горна он не мог, ибо не понимал, из-за чего спор, а впрочем, он в любом случае не сделал бы этого — расположение Бухольца было для него куда важней. И Боровецкий с досадой смотрел на Горна, пока тот спокойно надевал галошу, усмехаясь посиневшими от раздражения губами.
— Вы у меня служить не будете, я вас увольняю! — тихо проговорил Бухольц.
— А мне в высшей степени плевать и на вас, и на вашу службу.
Горн надел другую галошу.
— Да я прикажу выставить тебя за дверь!
— Только попробуй, хам! — выкрикнул Горн, поспешно набрасывая пальто.
— Болван, выставь его за дверь! — еще тише произнес Бухольц, нервно сжимая палку.
— Не подходи, Аугуст, не то я и тебе, и твоему хозяину ребра переломаю.
— Ферфлюхт![22] Выставить его за дверь! — крикнул Бухольц.
— Молчи, вор! — прорычал Горн, хватая тяжелый табурет и готовясь ударить, если его тронут. — Молчи, швабская морда! Ты, шакал! — И, швырнув табурет под стол, он вышел, хлопнув дверью с такой силой, что из нее вылетели стекла.
Боровецкого к этому времени в конторе уже не было.
Бухольц, не помня себя от ярости, со стоном откинулся, сил у него хватило лишь на то, чтобы нажать кнопку электрического звонка и сдавленным, охрипшим голосом прошептать:
— Полиция!
В опустевшей конторе надолго воцарилась тишина. Прибежавший испуганный лакей стоял неподвижно, не зная, что делать; он смотрел на синее лицо Бухольца и его искривленный от боли рот. Наконец Бухольц пришел в себя, открыл глаза, оглядел пустую комнату, сел поудобней в кресле и, еще минуту помолчав, ласково позвал:
— Аугуст!
Лакей приблизился со страхом — он знал, что, когда хозяин кличет его по имени и прикидывается добреньким, тут-то он опасней всего.
— Где пан Горн?
— Вы, вельможный пан, его прогнали, и он ушел.
— Хорошо. А где пан Боровецкий?
— Он только заглянул сюда и сразу ушел, наверно, на обед пошел, двенадцать давно било, гудки давно гудели на перерыв, — нарочно растягивал свой ответ Аугуст.
— Хорошо. Стань поближе.
Лакей вздрогнул, но повиновался.
— Слушаю вас! — покорно сказал он.
— Я велел тебе выставить этого пса. Ты почему не послушался, а?
— Он, вельможный пан, сам ушел, — со слезами на глазах оправдывался лакей.
— Молчать! — крикнул Бухольц и изо всех сил ударил его палкой по лицу.
Аугуст невольно попятился.
— Стой, иди сюда, поближе!
И когда лакей, устрашенный, опять приблизился, Бухольц схватил его за руку и стал нещадно колотить палкой.
Аугуст даже не пытался вырваться, только отвернулся, чтобы скрыть слезы, струившиеся по бритым щекам, а когда Бухольц, смертельно утомившись, прекратил избиение и со стоном откинулся в кресле, Аугуст стал укутывать ему ноги фланелью, которая от резких движений размоталась.
Между тем Кароль, предусмотрительно удалившийся, чтобы не быть свидетелем скандала, поехал на обед.
Обедал он в так называемой «колонии» на Спацеровой улице.
«Колония» состояла из десятка женщин-полек, выброшенных судьбою из разных концов страны на лодзинские берега.
В большинстве то были неудачницы, знавшие лучшие времена: вдовы, разорившиеся помещицы, бывшие богачки, бывшие важные дамы, старые девы и молодые девушки, приехавшие в Лодзь в поисках работы. Нужда объединила их и сравняла общественно-кастовые различия.