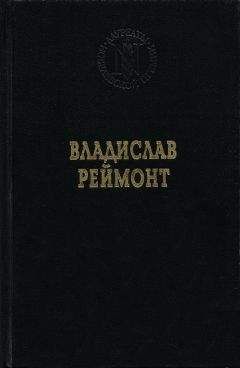— Я готов дать расписку.
— Мало! Подпись ваша немногого стоит, — смеялась девушка, забавляясь тем, как Боровецкий юмористически клялся, прижимая руку к сердцу.
— Тогда я подкреплю свою подпись гарантией какой-нибудь солидной фирмы.
— Наверно, пани Ликерт? — живо откликнулась Мада и быстро спрятала лицо в шелковую муфточку, сама испугавшись невольно вырвавшихся слов.
— Я ей столько раз говорил, что она дура, а она все не хочет верить, — проворчал Вильгельм.
— Вы куда идете? — спросила Мада, желая исправить свою неловкость и открывая красное, как мак, лицо.
— На работу, — непринужденно ответил Кароль, хотя упоминание о пани Ликерт больно его задело.
— Подвезем его? Ты согласна, Мада?
— О, с удовольствием. А вы согласны?
— Вот я уже сажусь вместо ответа.
— Вильгельм, сядь рядом с собакой, уступи место пану Каролю, — потребовала Мада.
— Благодарю, лучше я сам сяду ниже, мне будет удобней смотреть. Красивая собака.
— Стоит три тысячи марок. Получила медаль на выставке у Каприви.
— Значит, собачья знаменитость!
— Дурной пес, лает на меня, порвал мне новенький передничек.
— И вы не наказали его за такое преступление?
— Ну да, Вильгельм не разрешил бы его бить.
— А вы куда едете?
— Мада что-то высмотрела в Художественном салоне, верно, опять захочет купить какую-нибудь дурацкую картинку. А я решил немного покатать своего Цезаря, он дома скучает, совершенно как я.
— Когда же вы возвращаетесь в Берлин?
Мада очень громко и искренне рассмеялась.
— Он уже целый месяц как уезжает и каждый день из-за этого ссорится с папой.
— Молчи, Мада! Если ты дурочка, так не вмешивайся в дела, которых не понимаешь, — обрезал ее Вилли с раздражением, даже шрам на его лице побагровел.
Он распрямил свой могучий торс и нахмурил брови.
— Ну, скажите на милость, пан Кароль, вы меня тоже считаете дурочкой? Все в доме постоянно мне об этом твердят, так что в конце концов я сама должна буду в это поверить. Но все равно я, например, знаю, что Вильгельм наделал долгов в Берлине, а папа не хочет их оплатить, потому он и торчит в Лодзи, — со злостью сказала Мада, глядя на брата. — Ха, ха, ха, какое у него потешное выражение лица…
— Смотри, Мада, не то я выйду из коляски и пойду скажу фатеру, что ты тут болтаешь.
— Ну и выходи, нам с паном Боровецким будет просторней. Но вы еще не ответили на мой вопрос.
— На такой вопрос не может быть ответа.
— Вы не хотите сказать правду.
— Просто я этой правды не знаю.
— Когда же у меня будет список?
— Пришлю его сегодня.
— Не верю. Я желаю, чтобы вы в виде наказания сами его принесли.
— Если это — наказание, то как прекрасна может быть награда!
— Получите чашку хорошего кофе! — наивно выпалила Мада.
Вильгельм громко прыснул, даже Цезарь залаял.
— Разве я сказала глупость? — покраснев, спросила Мада с тревогой.
— Пана Вильгельма рассмешила собака, смотрите сами, какая она потешная.
— Вы добрый человек, даже папа так говорит и все у нас в доме говорят, кроме Вильгельма.
— Мада!
— Мне с вами очень приятно, но, к сожалению, вот уже моя фабрика. Благодарю и до свидания.
— Ждем вас в воскресенье после обеда.
— Я помню и огорчаюсь, что завтра не воскресенье, а четверг.
Мада, весело рассмеявшись, одарила его нежным взглядом.
Боровецкий с минуту постоял на тротуаре и увидел, что она несколько раз оборачивалась.
«Ах, почему у Анки нет миллиона! Какая жалость!» — думал он, торопливо направляясь на фабрику, где после обеденного перерыва возобновилось обычное бешеное движение.
Из соседних с фабрикой строений выехал отряд добровольного пожарного общества. Повозки, пожарные насосы, бочки, двигаясь в образцовом порядке, мчались очень быстро — грязь из-под колес и конских копыт летела брызгами во все стороны, на повозках поспешно натягивали мундиры превратившиеся в пожарников рабочие.
— Где горит, пан Рихтер? — спросил Кароль у командира отряда, одного из мастеров прядильного цеха. Ему помогал застегнуть мундир и подпоясаться фабричный привратник в своей будке.
— Горит Альберт Гросман! Стягивай потуже! — прикрикнул Рихтер на привратника, который никак не мог уместить его большущий живот в тесный пожарный мундир, даже пуговицы отлетали.
— Давно?
— Уже с полчаса. Но кажется, уже все загорелось. Потуже, пан Шмидт.
— И потому вы так спешите?
— Гросглик позвонил по телефону старику, просил сделать все, чтобы назло Грюншпану не дать сгореть его зятю.
— Почему так? Ага, они хотят его разорить.
— Это сегодня уже третий пожар.
— Фабрики?
— Известно.
— Возмещают убытки от последних банкротств.
— Чтоб их гром разразил, каторжники треклятые! Они наживаются, а мы, как собаки, должны мчаться, высунув язык, с одного пожара на другой.
— А как же иначе, им это необходимо, не то баланс не сойдется.
— До свиданья! Уф, сейчас лопну, ей-Богу! — крикнул Рихтер, усаживаясь в ожидавшие у ворот дрожки; лошади с места рванули вслед за пожарными повозками, которые, сияя блестящими касками пожарников, будто самоварами, виднелись уже на другом конце улицы.
— Хо, хо! Начинается горячая пора! — прошептал Кароль и поспешил к телефону, чтобы сообщить Максу Бауму про телеграмму Морица.
Не успел он отойти от телефона, как раздался звонок. Говорил Травинский — сейчас, мол, приедет по очень срочному делу.
— Жду тебя в печатном, — ответил Кароль и направился в цеха.
Он сразу очутился в круговерти снующих туда-сюда тележек, среди лязгающих машин и кип тканей, полотнища которых, похожие на разноцветные бесконечные ленты, двигались по цехам во всех направлениях среди трансмиссий, приводных ремней, маховых колес и людей; среди адского грохота и испарений, тучами плывущих над прачечной; среди хаоса разнообразных шумов, сотрясений, криков, скрипов, разнузданной, безумствующей энергии, увлекающей всех и вся и неистовым своим напряжением словно бы раздвигающей могучие фабричные стены; и Кароль полностью погрузился в сумасшедшую, захватывающую жизнь фабрики.
После чрезмерно нервного труда последних дней Кароль с облегчением и даже удовольствием отдался во власть этой чудовищно огромной окружавшей его деятельной силе.
Усталость проходила, в фабричном аду он словно бы набирался спокойствия и душевного равновесия, впитывая идущие к нему от людей и машин токи энергии.
Обойдя все цеха, Кароль возвратился в «кухню».
В кабинетике, отгороженном от «кухни» застекленной перегородкой, Муррей производил опыты на небольшой печатной машине. Пробы не удавались — краска расплывалась по ткани и заливала рисунок. Англичанин был в бешенстве, он сладко улыбался, но лицо его стало серым от возмущения, он по-бульдожьи скалил длинные желтые зубы. Вытирая руки передником, он негромко бранился.
— С самого полудня мучаюсь и не могу найти подходящий краситель!
Боровецкий рьяно принялся за работу, но вскоре ему помешал Травинский, который явился в таком волнении, что забыл даже поздороваться, и, еще стоя на пороге, попросил уделить ему минутку для разговора наедине.
— Пойдем-ка на склад вальцов, там никого нет, — предложил Кароль и повел его туда.
Травинский шел как во сне. Голубые глаза его блуждали вокруг, ничего не видя; на осунувшемся красивом лице лежала печать тревоги — она сквозила в удрученном взгляде запавших глаз, притаилась в уголках рта, не прикрытых небольшими светлыми усиками. Травинский был старым товарищем и другом Кароля, а теперь и владельцем довольно крупной фабрики хлопчатобумажных тканей.
— Говори же, что стряслось? — спросил Кароль, входя с ним в просторное, с высоким потолком помещение, уставленное железными стеллажами, на которых блестели аккуратно уложенные рядами медные печатные вальцы, похожие на большие свитки папируса, с напоминавшими иероглифы выпуклыми рисунками, которые печатались на тканях.
— Сейчас все расскажу, — еле слышно ответил Травинский, усаживаясь на какой-то тюк.
Он снял шляпу, оперся головой о стену и с минуту сидел молча, видимо, собираясь с мыслями.
— Ты болен? Вид у тебя неважный.
— Какой другой вид может быть у банкрота! — с горечью проговорил Травинский.
— Что же случилось? Опять кто-нибудь тебя обобрал?
— Хуже того. Я опять прогорел, и теперь мне, наверно, уже не оправиться.
— Да что ты говоришь! — с притворным удивлением воскликнул Кароль, уже знавший о невзгодах Травинского.
— Этот всеобщий крах, который задел самых сильных и из-за которого в эту минуту бушует пожар у Гросмана, не пощадил и меня. В субботу мне платить по векселям, а они у меня обеспечены векселями обанкротившихся, то есть я разорен. Да, платить в субботу. Не уплачу — все кончено. Треклятая моя судьба! Уже третий раз я на краю пропасти, но если теперь рухну, то больше уже не встану.