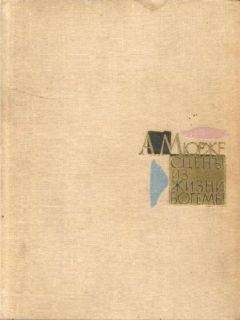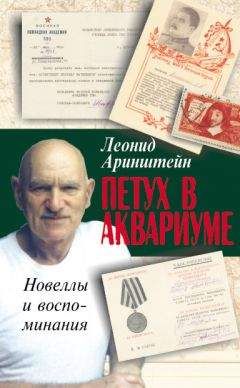– Злодейку,– вставил Марсель.
– А если нет ни гроша за душой,– продолжал Шонар, – то даже при строжайшей экономии трудно что-нибудь отложить, особенно когда у тебя желудок куда вместительнее кармана.
– К чему ты клонишь?– Родольф.
– Вот к чему. В нашем положении глупо ломаться, когда подвертывается случай приставить какую-нибудь цифру к нулю, обозначающему наш доход,– даже если работа совсем для нас неподходящая.
– Позволь, кто же из нас ломается, кого ты имеешь в виду? – спросил Марсель.– Пусть я буду со временем великим художником,– но ведь согласился же я посвятить свою кисть изображению французских воинов, хотя они расплачиваются за это карманными деньгами. Кажется, никто не может сказать, что я боюсь спуститься с вершин своей будущей славы.
– А я? – подхватил Родольф.– Разве ты не знаешь, что я уже две недели сочиняю медико-хирурго-зубопротезную дидактическую поэму для известного зубного врача, который оплачивает мое вдохновение из расчета пятнадцать су за дюжину александрийских стихов, то есть чуть дороже дюжины устриц? Однако я вовсе не считаю это зазорным, чем сидеть сложа руки, пусть моя муза сочиняет романс хотя бы о парижских кучерах. Когда владеешь лирой, то надо, черт побери, ею пользоваться… Вдобавок, Мими жаждет туфель.
– В таком случае, вы не осудите меня, когда узнаете, на какой Пактол я возлагаю надежды,– продолжал Шонар.
И он рассказал историю своих двухсот франков.
Недели две назад он зашел к знакомому музыкальному издателю, который уже давно обещал подыскать ему у своих клиентов какую-нибудь работу, будь то Урок музыки или настройка рояля.
– Вот кстати пришли! – воскликнул издатель, увидав его.– Сегодня меня как раз просили рекомендовать пианиста. Для англичанина. Вероятно, он прилично вам заплатит… А вы в самом деле хорошо играете?
Шонар решил, что если он проявит скромность, то лишь уронит себя в глазах издателя. Скромный музыкант, в особенности пианист,– явление вообще весьма редкое. Поэтому Шонар самоуверенно заявил:
– Я пианист первоклассный. Будь у меня больные легкие, длинная шевелюра и черный фрак, я блистал бы как солнце, а вы, вместо того чтобы требовать с меня за гравировку моей партитуры «Смерть девушки» восемьсот франков, сами поднесли бы мне на серебряном подносе за нее три тысячи да еще на коленях умоляли бы их принять. Право же,– добавил он,– мои десять пальцев уже десять лет отбывают каторжные работы на пяти октавах, поэтому я в совершенстве владею и белыми и черными костяшками.
Человек, к которому направили Шонара, был англичанин по фамилии Бирн. Сначала музыканта встретил лакей в голубой ливрее, он представил его лакею в зеленой ливрее, тот передал его лакею в черной ливрее, а этот ввел его в гостиную, где Шонар оказался лицом к лицу с господином Бирном. У островитянина был приступ сплина, поэтому он смахивал на Гамлета, размышляющего о ничтожестве человека. Шонар хотел было сообщить о цели своего прихода, но тут раздались такие душераздирающие вопли, что он не мог вымолвить ни слова. Это кричал попугай, сидевший на жердочке на балконе в нижнем этаже.
– Какой глуп, какой глуп!– воскликнул англичанин, подскочив в кресле.– Он доведет меня до смерти.
А попугай начал исполнять свой репертуар, который оказался куда обширнее, чем у его рядовых сородичей. Шонар прямо ошалел, услыхав, как птица принялась вслед за какой-то женщиной декламировать монолог Терамена, притом с интонациями, характерными для Консерватории.
Попугай был любимчиком некоей модной актрисы и обычно сидел в ее будуаре. Хозяйка его принадлежала к числу тех женщин, на которых неизвестно почему делают бешеные ставки на ипподроме полусвета и имена которых неизменно украшают меню аристократических холостяцких ужинов, где эти дамы служат живым десертом. В наши дни всякому христианину бывает лестно, когда его видят в обществе одной из таких языческих гетер, хотя обычно у этих язычниц нет ничего общего с древностью, если не считать метрики. Но когда они хороши собой, беда еще не велика, единственное, чем рискуешь, – это очутиться на соломе после того, как обставишь их палисандровым деревом. Но когда знаешь, что их красота приобретена в косметическом кабинете и не устоит против влажной губки, когда их остроты заимствованы из водевильных куплетов, а талант умещается на ладони клакера,– тогда трудно бывает понять, как люди утонченные, обладатели громкого имени, незаурядного ума и модных фраков, из любви к пошлости увлекаются особами, от которых отвернулся бы даже их Фронтен, если бы ему предложили выбрать себе Лизетту.
Актриса, о которой идет речь, была одной из таких модных красавиц. Звали ее Долорес, и она выдавала себя за испанку, хотя и родилась в парижской Андалусии, именуемой улицей Кокнар. От этой улицы до улицы Прованс всего десять минут ходьбы – однако Долорес потратила на дорогу семь-восемь лет. Ее благополучие возрастало по мере ее увядания. Так, в тот день, когда она вставила себе первый искусственный зуб, она получила в подарок лошадь, а когда вставила второй зуб – пару лошадей. Теперь она жила на широкую ногу, занимала целый дворец, в дни скачек в Лоншане сидела на почетных местах и задавала балы, на которые съезжался «весь Париж». Но что такое «весь Париж»? Это сборище бездельников, любителей всяких нелепостей и скандалов, это все те, кто играет в ландскнехт и сыплет парадоксами, все те, кто не утруждает ни головы своей, ни рук, все те, у кого одна забота – как бы убить и свое и чужое время, это писатели, которых удалось протащить в литературу только потому, что природа одарила их длинными ушами, распутники и бретеры, знатные шулера, кавалеры никому не ведомых орденов, непоседливая богема, которая неизвестно откуда берется и неизвестно куда исчезает, фигуры, намозолившие всем глаза, дочери Евы, которые некогда продавали запретный плод на улице, а теперь продают его в будуарах, вся развратная братик, от молокососов до старцев, какую встретишь на премьерах с индийской жемчужиной в галстуке или с тибетской козой на плечах,– и для этой-то братии расцветают первые весенние фиалки и первая девичья любовь! Весь этот сброд, именуемый в газетных хрониках «всем Парижем», был принят у мадемуазель Долорес, хозяйки упомянутого попугая.
Эта птичка, прославившаяся своим красноречием на весь околоток, понемногу стала пугалом для соседей. Когда ее выносили на балкон, она превращала свою жердочку в трибуну и с утра до ночи произносила нескончаемые речи. Кое-кто из журналистов посвятил ее хозяйку в некоторые парламентские дела, и после этого птичка стала проявлять удивительные познания по «сахарному вопросу». Она знала наизусть все роли артистки и так замечательно их декламировала, что в случае болезни хозяйки могла бы ее заменить. Вдобавок, поскольку актриса была космополиткой в области чувств и дом ее был открыт для гостей из всех стран света, попугай научился говорить на любом языке и на каждом из них так сквернословил, что покраснели бы даже матросы, у которых одно время жил пресловутый Вер-Вер. Минут десять можно было не без удовольствия и даже не без пользы слушать болтовню бойкой птички, но затем это становилось настоящей пыткой. Соседи не раз жаловались актрисе, но та дерзко отвергала все их просьбы. Двое-трое из жильцов, почтенные отцы семейств, были до того возмущены развратом, в который посвящал их нескромный попугай, что даже съехали с квартиры, ибо хозяин дома, обольщенный актрисой, был на ее стороне.
Англичанин, к которому явился Шонар, терпел целых три месяца.
Наконец терпение его лопнуло. Однако он скрыл свою ярость и однажды, одевшись так, словно собрался в Виндзорский замок на прием к королеве Виктории, явился к мадемуазель Долорес.
Когда он вошел, актриса подумала было, что это Гофман в роли лорда Сплина. Ей захотелось достойным образом принять товарища по профессии, и она предложила гостю завтрак. Англичанин важно ответил ей на ломаном французском языке, (взял всего двадцать пять уроков, причем учителем его был испанский эмигрант).
– Я приму ваш приглашений на условии, если мы скушаем этот… неприятный птиц.– И он указал на клетку.
А попугай, сразу почуяв в госте островитянина, приветствовал его, насвистывая «God save the King»*[Боже, храни короля (англ.)].
Долорес решила, что англичанин пришел поиздеваться над ней, и уже готова была рассердиться, когда тот добавил:
– Я очень богат и заплачу за птиц, сколько он стоит.
Долорес возразила на это, что попугай ей очень дорог и она не намерена отдавать его в чужие руки.
– О, я не хотел взять его в свой рук,– ответил англичанин.– Я хотел его под ног.– И он указал на свой каблук.
Долорес затрепетала от негодования и уже готова была разразиться бранью, но в этот миг заметила на пальце англичанина бриллиантовое кольцо, говорившее о ренте по меньшей мере в две тысячи франков. Это открытие отрезвило актрису как холодный душ. Она сообразила, что неразумно ссориться с человеком, который носит на мизинце пятьдесят тысяч франков.