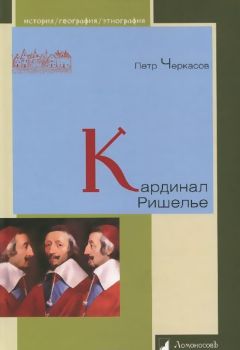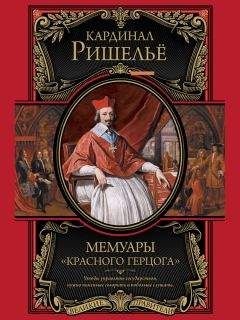Священник рассмеялся:
– Жаль, что вы не знаете букв. Но вы не один такой. Стражник у заставы тоже не умеет читать.
Смех его был таким же ясным, как взгляд; лицо так и искрилось весельем.
– Понимаете, – продолжал он, – вы могли бы выйти из города без всякого сопровождения, представив любой клочок бумаги. Я показал ему письмо одного из наших братьев, а вовсе не пропускной лист.
Тут и Гийон рассмеялся.
– Но ведь это ложь, отец мой, – помолчав, сказал он. – А вы как-никак священник.
– Можно иногда и позабавиться. Не для того создатель послал нас на землю, чтобы мы всю жизнь только плакали. Он хочет, чтоб мы жили в радости. А на свете и так много горя. Поэтому, если ложь пустяковая, – поверьте, за нее отвечать не придется.
Он умолк. Дорога мало-помалу пошла в гору, а главное, становилась все уже, зажатая между зарослями кустарника, с одной стороны, и лесом. Ветер время от времени кидал в путников пригоршни холодных капель, колючих, как песок. Они ускорили шаг и обогнали кобылу, чтоб идти посередине дороги, где ноги не так вязли.
– Неужели вы бы предпочли, чтобы кто-нибудь из стражи провожал нас до бараков?
– Нет, – ответил возница. – Но что, ежели бы тот, который приходил за мной, сказал советнику: мол, врет Гийон все, не хотел он идти к больным?
– Конечно, тот субъект не очень умен, это сразу видно. Но все же в нем есть проблески разума. И я почувствовал, что ему вовсе неохота лезть с нами наверх. Слишком он боится заразы.
Судорожный порыв ветра с дождем заставил их пригнуть голову. Иезуит взялся рукой за шляпу. В молчании дошли они до поворота, где было не так ветрено. Оба выпрямились, и священник, взглянув на Гийона, сказал:
– Момент был удобный.
– Удобный?
– Да, когда я шел, опустив голову. Достаточно было ударить рукояткой кнута пониже затылка.
Возница почувствовал, как у него вспыхнуло лицо. Он хотел возмутиться, но сумел лишь пробормотать:
– Ах, святой отец… Что же вы…
– Остановимся на минутку. Лошади нужно передохнуть, да и мне тоже.
Гийон остановил упряжку и пустил кобылу пощипать кустарник. А отец Буасси вошел под прикрытие ближайших деревьев и сел на пенек. Шум ветра в верхних ветвях, шуршанье редких капель по ржавым листьям, еще висевшим на буках и дубах, создавали впечатление, будто рядом течет река. Гийон опустился на толстое корневище напротив иезуита – тот молча, внимательно глядел на него. Возница чувствовал, как этот взгляд пронизывает его насквозь, и все же не в силах был отвернуться.
– Вы, верно, неплохой парень, – сказал отец Буасси, – но боюсь, иногда вам недостает храбрости. Поначалу вы хотели предложить мне бежать. Добраться до Савойи или до Во, как делают многие. Потом вы сказали себе: «Если этот дуралей сам напросился в бараки, вряд ли он меня послушает; я посильней его, при первой же возможности оглушу его и удеру вместе с кобылой».
Матье открыл было рот, пытаясь что-то сказать, но священник перебил его:
– Нет, Гийон, я еще не кончил. Мы с вами пустились в путь, навстречу случаю, который может оказаться для нас гибельным. Я не лгу, говоря, что наступление холодов вселяет в меня надежду, но мы должны приготовиться к худшему. К тяжким страданиям, а быть может, и к смерти. К смерти мучительной. Я соборовал великое множество больных чумой. Поверьте, это далеко не весело. Так что, Матье Гийон, выслушайте внимательно то, что я вам скажу.
Он замолчал и, приподнявшись с пенька и переступив ногами, вытянул левую перед собой. Взгляд его как будто смягчился, и на секунду вознице показалось, что сейчас иезуит заглядывает себе в душу. Но глаза священника почти тотчас загорелись прежним огнем, и Матье снова почувствовал себя их пленником. Спокойный, размеренный голос отогнал в лесную чащу капризные завывания ветра.
– Поймите меня правильно, сын мой. Если бы вы нашли смерть, ухаживая за больными не по доброй воле, а лишь по принуждению советников, назначивших именно вас выполнять эту миссию, страдания ваши были бы ужасны. Ибо чума редко поражает сразу. Она дает вам время увидеть приближение смерти, к телесным мукам зачастую прибавляются терзания душевные, и они бывают поистине невыносимы. Вы стали бы думать о тех, кто вас назначил, и покинули бы этот мир в ненависти. Вы почувствовали бы себя жертвой несправедливости. И, возможно, последним усилием разума прокляли бы советников. И это было бы страшно, Гийон. По-настоящему страшно. Я же – я был бы виновен в том, что не попытался уберечь вас от подобного конца… Я не хочу так рисковать… Поэтому я вот что вам предлагаю: продолжаем подниматься. Когда мы подойдем к баракам настолько близко, чтобы я мог один довести лошадь с повозкой, вы уйдете, если захотите. Я скажу, что вы сбежали, а я не сумел вам помешать.
Возница хотел было запротестовать, но монах вновь поднял руку в знак того, что еще не кончил.
– Нет-нет, – сказал он. – Сейчас не говорите мне ничего. Вы должны подумать. Я хочу, чтобы вы приняли решение сами и в согласии со своими истинными желаниями.
Он поднялся. Гийон последовал его примеру, и они оказались лицом к лицу, почти вплотную друг к другу. Иезуит снял шляпу, и ветер тотчас растрепал примятые ею волосы. Лицо его не выказывало и тени волнения. Казалось, он весь был исполнен прекрасной спокойной силы, точно могучее дерево, у которого лишь самые тонкие ветки колышатся на ветру.
– Вы должны подумать, – еще раз повторил отец Буасси. – Если вы сами решите туда пойти, все будет иначе. Вы увидите, как на ваших глазах изменится облик мира. Избрав такой удел, вы подниметесь неизмеримо выше тех, кто вас туда назначил. Их решение потеряет свой смысл. У вас будет право сказать: «Эти подлецы выбрали меня, чтобы уберечь жителя своего города. Если бы меня не оказалось под рукой, им пришлось бы кидать жребий. Они солгали мне, они смошенничали, но это не имеет значения, ибо я добровольно принимаю на себя миссию, которая дает мне прекрасную возможность посвятить себя ближнему».
И он направился к дороге, где, нетерпеливо дергая поводья, их дожидалась лошадь, но вдруг обернулся, взял Матье за плечи и долго смотрел ему в глаза. Теперь он не был уже могучим деревом, противостоящим всем ветрам. Он был сама нежность, раскрывшаяся навстречу Матье. Словно бездонное зеркало, которому невозможно солгать. Увидев его таким, возница почувствовал, как все в нем всколыхнулось.
– Вы добрый христианин, – сказал священник, – Вы веруете… Искренне веруете…
В тоне его не слышалось вопроса, и все же Матье трижды утвердительно кивнул.
– Так вот, Гийон, раз вы верите в бога, значит, знаете, что смерть – это лишь начало. Начало другой жизни. Дверь, ведущая в мир света и радости… Если, конечно, человек достоин занять место в том вечном мире.
Они долго шли молча. Иезуит срезал ветку орешника и сделал себе палку. Он шагал и шагал, размеренно и спокойно; кобыла же то замедляла шаг, то вовсе останавливалась, и Гийон вскоре далеко отстал от черного плаща, в который, как временами чудилось ему, облачился ветер. Священник редко опирался на палку, – он вертел ею, перекладывал из руки в руку, как делают мальчишки-пастухи, чтобы убить время.
Возницу поражал этот монах, который лгал, смеялся по любому поводу и так спокойно шел в обитель чумных. И вот, пережив минутную радость, когда в руках у него, Матье, вновь оказались вожжи, хотя это и было совсем не то, что править шестеркой лошадей, как ему доводилось раньше, насладившись возможностью шагать широко, пощелкивая кнутом, он смотрел теперь на маячивший впереди черный силуэт священника, который предоставил ему выбор между жизнью и смертью, а сам беззаботно размахивал палкой.
На первый взгляд выбор казался таким простым. Надо быть сумасшедшим, чтобы согласиться на смерть. Матье-то знал, что такое чума! Он видел ее и в Сен-Клоде, и в Клерво, и в Сусья. Тогда в Сен-Клоде он чуть было не сложил кости. Люди до сих пор помнили тот, 1630-й, год. Не так уж много времени прошло с тех пор. Рассказывали, что в первый же день все монахи бежали в Сен-Люписен. Остаться отважились лишь настоятель и один из послушников. Советников и то оставалось лишь трое. Все словно с ума посходили. Если кто-то заболевал чумой, стражники заколачивали этот дом, а люди все равно пытались оттуда бежать. Из аркебуз расстреливали всех подряд – больных, и подозреваемых, и тех, кто выносил трупы, а как-то убили даже врача. В прошлом году люди все это и вспомнили, страшась, что резня может повториться. Матье как раз проезжал через город с грузом балок и поторопился убраться с постоялого двора, где он остановился поесть супу в компании двух возчиков. Один – тот, что из Гранво, – шел с грузом в гору, навстречу Матье и еще посмеялся тогда такой его прыти. Он объявил, что останется тут на ночь, потому как лошади устали, а хороший возчик не станет гнать лошадей день и ночь просто так, без причины. Несколько недель спустя Матье узнал, что уроженец Гранво из города-то выехал, да только вперед ногами, на телеге с трупами, которая довезла его до кладбища чумных, хотя на самом деле бедняга умер вовсе не от чумы, а от мушкетного выстрела. Решили, что это он занес чуму в город, раз пришел откуда-то из другого места. Лошадей его разогнали кнутом, а телеги со всем зерном сожгли. Страх перед чумой оказался сильнее голода, от которого у всех тогда сводило брюхо.