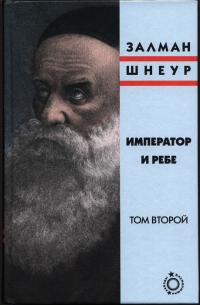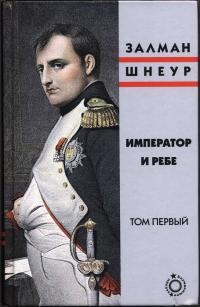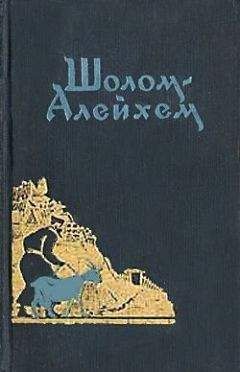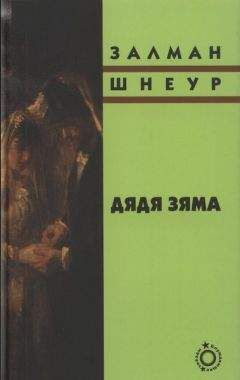евреев! Так зачем же нам относиться к ним лучше и милосерднее, чем они сами друг к другу относятся?..»
Да, деньги старостам виленской общины он, реб Нота, возможно, будет давать и дальше, но не на войну с хасидами, а на мир. Надо засыпать, насколько это только удастся, ту пропасть, что разверзлась в рассеянных по городам и местечкам общинах еще до того, как они успели пустить корни в России, ощутить, что у них теперь под ногами русская земля.
Именно эти планы примирения и желание увидать старого гаона заставили реб Ноту подавить в себе тоску по внуку, невестке и по своему шкловскому дому. И вместо того чтобы поехать через Великие Луки и Полоцк, свернул на Двинск, а оттуда — на Вильну. В Вильне он на неделю с лишним остановился во дворе Рамайлы, поближе к старостам этой большой еврейской общины и к верхней комнате гаона Элиёгу.
2
Реб Нота не раскаялся в том, что сделал крюк ради визита в Вильну, хотя своих планов примирения между миснагедами и хасидами ему ни на шаг не удалось продвинуть. Виленские раввины, ученые и синагогальные старосты не могли даже допустить мысли о примирении с хасидскими «соблазнителями и соблазненными». Разве что… если все они, вместе с их канторами, резниками и цадиками, позволят, чтобы общинный служка выпорол их у позорного столба при входе в Старую синагогу; если они сами сожгут свои нечистые рукописные книжонки посреди Синагогального двора и будут при этом бить себя кулаком в грудь в знак покаяния на глазах у всех…
Для горячих приверженцев гаона «все эти» были своего рода реинкарнацией Шабсы Цви, [7] да сотрется его имя. А все обычаи хасидов были в их глазах не лучше гнусных деяний польских франкистов. С пеной на губах богобоязненные виленские евреи доказывали реб Ноте, что для вхождения в экстаз приверженцы секты считают возможным плясать во время молитвы, громко орать и даже напиваться пьяными. Владыка мира обретает в их пьяном воображении грубый, плотский образ; Шхина, представляющая собой лишь святое понятие Божественного милосердия, становится в их воображении женщиной; даже царица-суббота превращается для них в самку из плоти и крови. В качестве доказательства виленские богобоязненные евреи толковали литургические песни, распевавшиеся хасидами за столом во время их субботних трапез и происходящие от «дикого» каббалиста рабби Ицхака Лурии: «Пусть муж ее обнимет ее, и пусть он соединится с ней, чтобы доставить ей наслаждение…» [8] То есть значит, чтобы Владыка мира — царицу-субботу, то есть… черт знает что…
На этом месте у богобоязненных виленских евреев кончались слова, и они только разводили руками, глядя на реб Ноту испуганными глазами.
Потом они доказывали ему по рукописной хасидской книжонке, что во время молитвы хасиды считают нужным как можно больше раскачиваться из стороны в сторону и метаться, чтобы соединится со Шхиной — так, как соединяются с женщиной.
Однако реб Нота Ноткин не склонился в сторону этих богобоязненных жалобщиков и устроил потихоньку собственное расследование в одном маленьком виленском миньянчике, где собирались хасиды. Он хотел узнать, что те говорят сами о себе, как они сами объясняют странные вещи, в которых их упрекают…
Дрожащими голосками напуганные хасиды с растрепанными бородами и пейсами доказывали, что они обязаны своей душой Богу, что все, что они делают, — это лишь внешние вещи, шелуха… «Рабби Меир, — как сказано в Геморе, — нашел плод граната. Он съел его нутро, а оболочку выбросил». Так же следует поступать и с хасидскими понятиями, так и поступают хасиды Бешта и покойного межеричского проповедника. Миснагеды только пережевывают шелуху Святой Торы и знать не желают о ее содержимом. Но каждая заповедь и каждая святость укутана в земную оболочку, как человеческая душа укутана в грешное тело. Нельзя отвергать тело. Ведь без него у души нет материального воплощения, точно так же, как и пламя свечи не может существовать без некошерного сала. Без тела даже нельзя произнести благословение «Ше-гехейону» [9] на новый плод, выросший на земле. И так учил молодой ребе Шнеур-Залман из Лиозно: одну половину наслаждения душа получает от благословения, а другую половину — тело от плода. Только так могут существовать Тора и внешний мир. Существовать вместе…
Гаона Элиёгу, ожесточенного противника реб Шнеура-Залмана, они теми же самыми дрожащими голосками восхваляли до небес: о, его ученость, его познания, его богобоязненность!.. Но понемногу у них развязались языки, и они начали упоминать о жесткости реб Элиёгу, о его оторванности от окружающего мира. А это уже был верный признак скрытой ненависти: она начинается с восторженных похвал и переходит в злоязычие.
— Мы маленькие люди, — стали притворяться дурачками растрепанные хасиды. — Как можем мы, цыплята, лететь наравне с таким орлом? Кто может взять на тебя такую смелость? Ведь не все способны проводить всю жизнь в изгнании…
Реб Нота нахмурил брови и с подозрением посмотрел на этих молодых людей, подпоясанных кушаками с кистями:
— Насколько я помню, учитель наш Элиёгу лишь однажды в жизни, после женитьбы, много лет назад, был на чужбине.
— Он и сейчас словно в изнании… — переглянулись между собой хасиды, — каждый день, даже в субботу. В субботу — даже больше, чем в будни. Реб Элиёгу избегает людей. Он молится в одиночестве. Даже в Большую синагогу не ходит. Собственную жену и детей избегает целую неделю. В субботу они сидят у него вокруг стола, как скорбящие. Там, где ученики межеричского проповедника поют субботние песнопения, гаон произносит нравоучения и никому слова не дает сказать. Он наставляет, что надо быть сдержанным, умеренным. Если хочется съесть кусок рыбы — надо съесть половину куска. Хочется стакан цикория — надо выпить полстакана…
— Довольно! — воскликнул реб Нота. — Это сплетни… В будни — может быть, но в субботу?
— Спле-етни? — напевно переспросил один из хасидов. — Залман-Ича, где завещание?
— Мы не вмешиваемся… — заморгал хасид по имени Залман-Ича, напуганный, что реб Нота накричал на них. Тем не менее он поспешно начал рыться у себя во внутреннем кармане и, кашляя, вытащил оттуда кусок бумаги, сложенный пополам и немного засаленный. Было заметно, что много рук уже сжимали этот лист своими пальцами. А когда хасид развернул документ, оказалось, что он плотно исписан остроконечными раввинскими буквами, выстроенными в строки, изогнутые наподобие натянутых и готовых к стрельбе луков. Глаза пугливого хасида вспыхнули, и с бледной улыбкой он поднес развернутую бумагу к блестящим очкам реб Ноты:
— Читайте, реб богач! Читайте…
— Мне трудно читать такой почерк, — оттолкнул от себя реб Нота эту