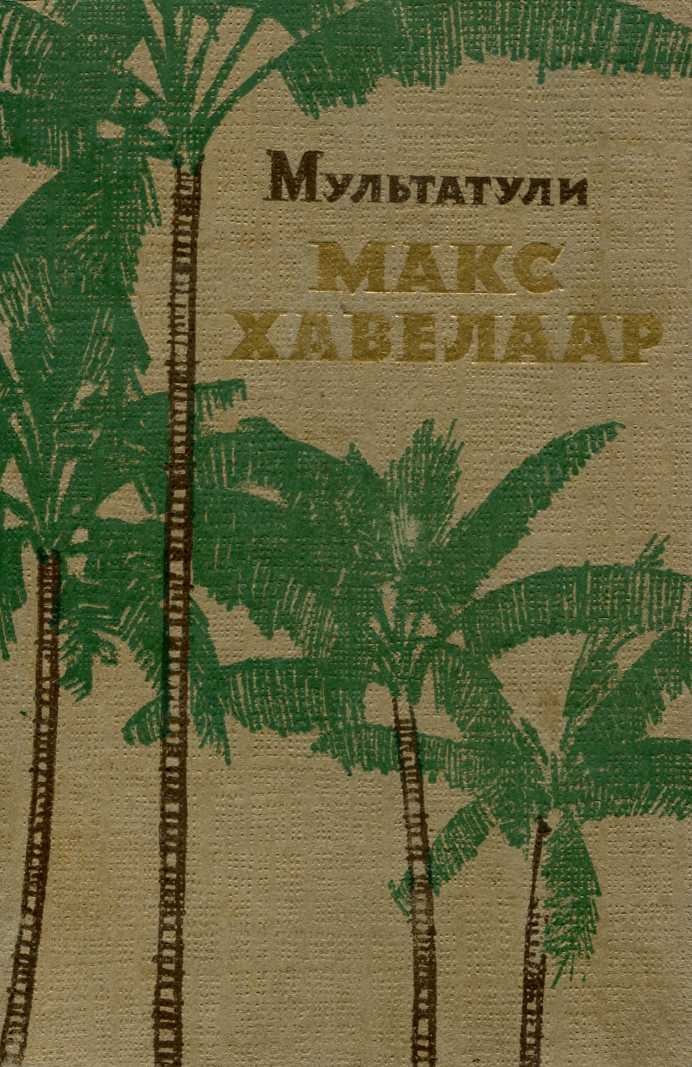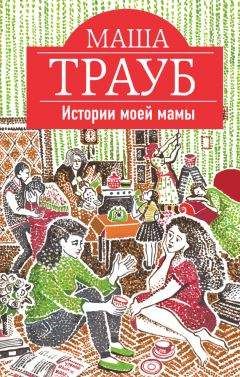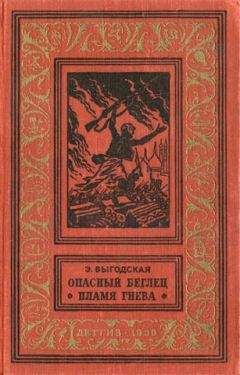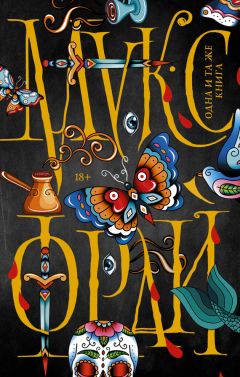рвение кажется мне вполне естественным в пылу красноречия.
Но обратил ли ты, читатель, внимание на пункт 5 «д»? Именно этот пункт живо напомнил мне о кофейных аукционах и о мнимом бесплодии лебакской почвы. Тебя поэтому не удивит, если я признаюсь, что со среды этот пункт ни на минуту не выходит у меня из головы.
Пастор Вавелаар зачитал нам отчеты миссионеров. Никто не может усомниться в его основательном знакомстве с предметом. Так вот если он, с отчетами в руках и подняв глаза к богу, утверждает, что упорный труд поможет душам яванцев завоевать царство божие, тогда я скажу, и буду прав, что в Лебаке отлично можно разводить кофе. Более того — быть может, высшее существо только для того и создало эту почву непригодной для культуры кофе, чтобы через труд, необходимый для ее переработки, сделать вечное блаженство доступным населению этих земель.
Я надеюсь, что моя книга попадется на глаза королю и что скоро расцвет наших аукционов покажет, сколь тесно связано богопознание с правильно понятыми интересами всего общества. Подумать только, что этот простой, смиренный Вавелаар, не обладающий житейской мудростью (этот человек ни разу ногой не ступил на биржу), но просвещенный евангелием, этим светочем на его пути, внезапно внушил мне, кофейному маклеру, мысль, осуществление которой важно для всей страны, и что, пожалуй, даст мне возможность, если Фриц будет хорошо себя вести (он очень прилично держал себя в церкви), поехать в Дриберген на пять лет раньше. Да, трудиться, трудиться — вот мой лозунг. Труд создан для яванцев — мой принцип; а принципы для меня священны.
Не есть ли евангелие высшее благо? Есть ли что-либо выше вечного блаженства? И разве не наш долг этих людей к нему приобщить? И если средством к тому служит труд, — я сам уже двадцать лет посещаю биржу, —то разве мы вправе отказывать яванцу в работе, когда его душа так нуждается в ней, чтобы не гореть впоследствии в аду? Было бы себялюбием, позорным эгоизмом, если бы мы не сделали всех попыток, чтобы спасти этих бедных заблудших людей от страшного будущего, которое пастор Вавелаар так красноречиво обрисовал.
Одна юфроу упала в обморок, когда он говорил о черном ребенке. Возможно, у ее ребенка тоже очень смуглая кожа. Таковы уж женщины!
И как мне не настаивать на труде, когда я сам с утра до вечера только и думаю о делах? Разве не доказывает эта книга, которая приносит мне из-за Штерна столько огорчений, как я забочусь о благополучии нашего отечества и что я ставлю это выше всего? Если приходится так тяжело работать мне, крещенному в Амстельской церкви, то разве мы не вправе требовать всяческого напряжения от яванца, который в поте лица своего еще только должен заслужить свое спасение?
Если это общество (я имею в виду пункт 5-й) будет основано, я в него вступлю и постараюсь привлечь туда и Роземейеров; торговцы сахаром тоже в этом заинтересованы, хотя я и не особенно уверен в их благочестивости, то есть Роземейеров. Ведь у них горничная католичка.
Как бы там ни было, я свой долг исполню. Я дал себе в этом обет, когда возвращался с Фрицем из церкви. В моем доме будут служить господу. Об этом я позабочусь с тем большим рвением, что с каждым днем я все глубже убеждаюсь, как мудро все устроено, как милостивы пути, по которым ведет нас рука божия, как он стремится сохранить нас для вечной и для временной жизни, потому что почва в Лебаке может быть отлично приспособлена для культуры кофе.
Глава десятая
Хотя я никого не боюсь, когда дело идет о принципах, все же я понял, что со Штерном нужно действовать иначе, чем с Фрицем. И так как мое имя (фирма называется Ласт и К0, меня зовут Дрогстоппель, Батавус Дрогстоппель) придет в соприкосновение с книгой, в которой говорится о вещах, несовместимых с достоинством порядочного человека и маклера, то считаю долгом сообщить, как я пытался наставить на путь истины и этого Штерна. Я не говорил с ним о боге, — ведь он лютеранин, — но я старался повлиять на его душу и честь. Послушай, как я это сделал, и заметь, чего можно достигнуть, если знать человеческую натуру. Однажды в разговоре он сказал: «Честное слово!» — и я спросил его, что он хочет этим сказать.
— Это значит, — сказал он, — что я ручаюсь моей честью за верность того, что я сказал.
— Это очень много, —заметил я, — так ли уж вы убеждены, что всегда говорите правду?
— Да, — заявил он, — правду я говорю всегда. Когда у меня пылает сердце... — Читатель знает остальное.
— Это в самом деле прекрасно, — сказал я и, прикинувшись простачком, сделал вид, что поверил.
Но в этом и заключалась тонкость приема, на который я хотел его поймать, ибо я собирался, не рискуя упустить старого Штерна в руки Бюсселинка и Ватермана, поставить этого молокососа на место и дать ему почувствовать, насколько велико расстояние между новичком, даже если его отец делает большие дела, и маклером, который в течение двадцати лет посещает биржу. Ведь мне было известно, что он знал наизусть множество всяческих стихов; а так как стихи всегда ложь, то я был уверен, что вскоре уличу его в неправде. Мне долго не пришлось дожидаться. Я сидел в крайней комнате, а он в гостиной (у нас есть гостиная). Мария вышивала, а он собирался ей что-то декламировать.
Я внимательно прислушивался и, когда он кончил, спросил, есть ли у него книга со стихами, которые он только что отбарабанил. Он сказал, что есть, и принес ее мне: то был томик сочинений некоего Гейне. На другое утро я передал ему, то есть Штерну, нижеследующее:
РАЗМЫШЛЕНИЯ
о любви к правде некоего человека, который читает следующие вирши Гейне молодой девушке, сидящей в гостиной за вышиванием:
На крыльях песни, любовь моя,
Тебя унесу я к полям...
Любовь моя? Мария — ваша любовь? А знают ли об этом старшие и Луиза Роземейер? Хорошо ли