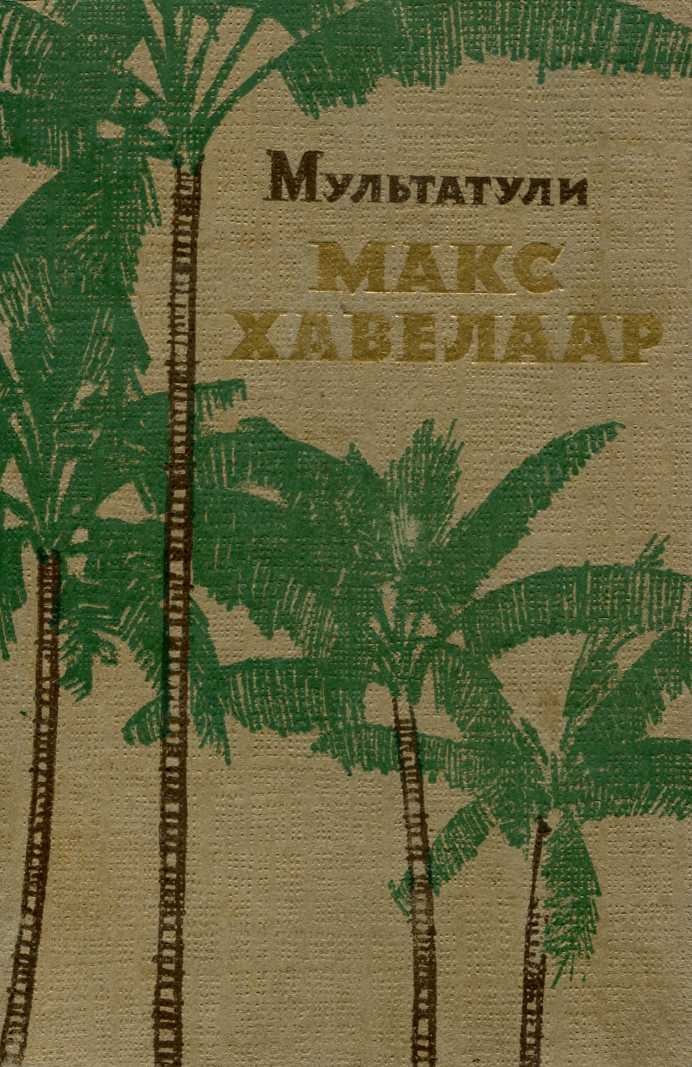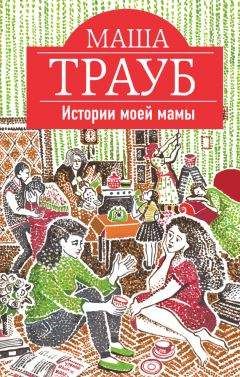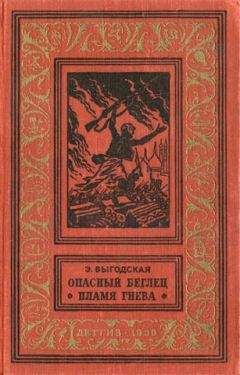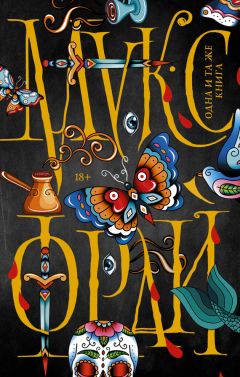введение?) Обещаю вам: под конец дело будет идти о кофе, о кофе и ни о чем другом, как только о кофе. Вспомните Горация, — продолжал он, — разве он не сказал уже: «Omne tulit punctum qui miscuit...» [100] кофе с чем-то другим? Не поступаете ли вы точно так же, когда смешиваете с кофе молоко и сахар?
Тут я должен замолчать. Не потому, что он был прав, но потому, что я взял на себя обязательство перед фирмой Ласт и К0 позаботиться о том, чтобы старый Штерн не попал в руки Бюсселинка и Ватермана, которые будут его плохо обслуживать, — они ведь шарлатаны.
Перед тобой, читатель, я раскрываю свое сердце. Я хочу, чтобы по прочтении писаний Штерна, если ты их действительно читаешь, ты не обрушил своего гнева на неповинную голову, ибо кто вздумает обратиться к маклеру, которого он ругает людоедом? Я полагаюсь на то, что ты убежден в моей невиновности. Я теперь уж не могу вытеснить Штерна из фирмы моей книги, когда дело дошло до того, что Луиза Роземейер, возвращаясь из церкви, спрашивает, не придет ли он сегодня вечером немного раньше, чтобы побольше почитать о Максе и Тине.
Но так как ты все же купил или занял эту книгу, положившись на ее внушительное заглавие, обещающее нечто солидное, я признаю твое право претендовать за свои деньги на нечто хорошее и потому теперь сам напишу одну-другую главу. Ты не присутствуешь, читатель, на вечере у Роземейеров, и потому тебе легче, чем мне, которому приходится все выслушивать. Ты волен пропустить главы, от которых пахнет немецкой сентиментальностью, и ограничиться тем, что написано мною, человеком солидным и кофейным маклером.
С удивлением я узнал из писаний Штерна, — в подтверждение он показал мне несколько бумаг из пакета Шальмана, — что в Лебакском округе кофе не культивируется. Это большое упущение. Я буду считать себя вознагражденным за свой труд, если правительство благодаря моей книге обратит внимание на это упущение. Из бумаг Шальмана явствует, что почва для кофейных плантаций в тамошних местах непригодна. Но это совершенно не может служить оправданием. Я утверждаю, что если не переделать там почвы (яванцам ведь нечего больше делать) или (если это окажется невозможным) не переселить живущих там людей в другие места, где почва пригодна для кофе, то это будет непростительным забвением долга перед Нидерландами вообще и перед кофейными маклерами в особенности, и даже перед яванцами. Я никогда не говорю того, чего не обдумал как следует, и я позволяю себе заявить, что говорю со знанием дела, ибо я зрело продумал этот вопрос после того, как выслушал проповедь пастора Вавелаара [101] об обращении язычников.
То было в среду вечером. Ты должен знать, читатель, что я добросовестно выполняю обязанности отца и что нравственное воспитание моих детей очень близко моему сердцу. Так как Фриц с некоторого времени усвоил в тоне и в манерах нечто такое, что мне не нравится (все это из-за проклятых бумаг Шальмана!), я однажды позвал его и сказал:
— Фриц, я тобой недоволен. Я всегда учил тебя хорошему, а теперь ты сворачиваешь с правильного пути. Ты становишься строптив и непослушен, пишешь стихи и один раз даже поцеловал Бетси Роземейер. Страх божий есть начало всякой мудрости. Ты не должен целовать никого из Роземейеров и не должен воображать, что ты умнее всех. Безнравственность ведет к гибели, мой мальчик! Читай писание и подумай об этом Шальмане.. Он сошел с путей господних. Теперь он беден и живет в маленькой каморке. Вот видишь, каковы последствия безнравственности и дурного поведения! Он писал в газете недопустимые статьи и уронил «Аглаю», — вот что случается с человеком, когда он возомнит о себе. Он не знает даже, который час, и его мальчик ходит в рваных штанишках. Вспомни, что твое тело — храм божий, что твой отец должен был всегда много трудиться, чтобы жить (это правда): подними же свои глаза к небу и постарайся вырасти добропорядочным маклером к тому времени, когда я удалюсь на покой в Дриберген. И берегись всех тех людей, которые не хотят слушать добрых советов и попирают ногами религию и нравственность. Не бери примера с таких людей и не ставь себя на одну доску со Штерном, отец которого так богат и у которого всегда будет достаточно денег, даже если он не станет маклером и время от времени будет совершать непохвальные поступки. Помни о том, что зло всегда карается. Подумай опять об этом Шальмане, который не имеет зимнего пальто и похож на комедианта. В церкви будь внимателен, не вертись во все стороны на скамье, будто тебе скучно, потому что... что подумает тогда о тебе господь бог? Ведь церковь — это жилище божье, не так ли? Не подстерегай девиц после церковной службы, ибо это отвлекает твои мысли от назиданий пастора. Не смеши также Марию, когда я за завтраком читаю из священного писания: это неподобает в приличном доме. Затем, ты рисовал фигурки на настольной бумаге у Бастианса, когда он не пришел в контору из-за припадка подагры, — это отвлекает служащих конторы от работы. И в священном писании сказано, что подобные глупости ведут к гибели. Шальман тоже делал разные глупости, когда был молод: еще ребенком он избил на Вестермаркте одного грека, а теперь он ленив, неуклюж и слаб здоровьем. Кроме того, мой мальчик, не строй таких рож вместе со Штерном: его отец богат, не забывай этого. Притворись, что ты ничего не видишь, когда он делает гримасы бухгалтеру, а когда он вне конторы берется за стихи, то при случае скажи ему, — пусть лучше напишет своему отцу, что ему у нас очень хорошо и что Мария вышила ему туфли. Спроси его, между прочим, думает ли он, что его отец собирается обратиться к Бюсселинку и Ватерману, и скажи ему, что они шарлатаны. Так ты наставишь его на правильный путь — это наш долг по отношению к ближнему. А все это писание стихов — сплошное идиотство. Будь же скромен и послушен, Фриц, и не дергай служанку за юбку, когда она приносит чай в контору. Не навлекай на меня позора, потому что этак она может пасть. Святой Павел говорит, что сын никогда не должен причинять огорчений отцу. Уже двадцать лет я посещаю биржу и могу сказать, что меня