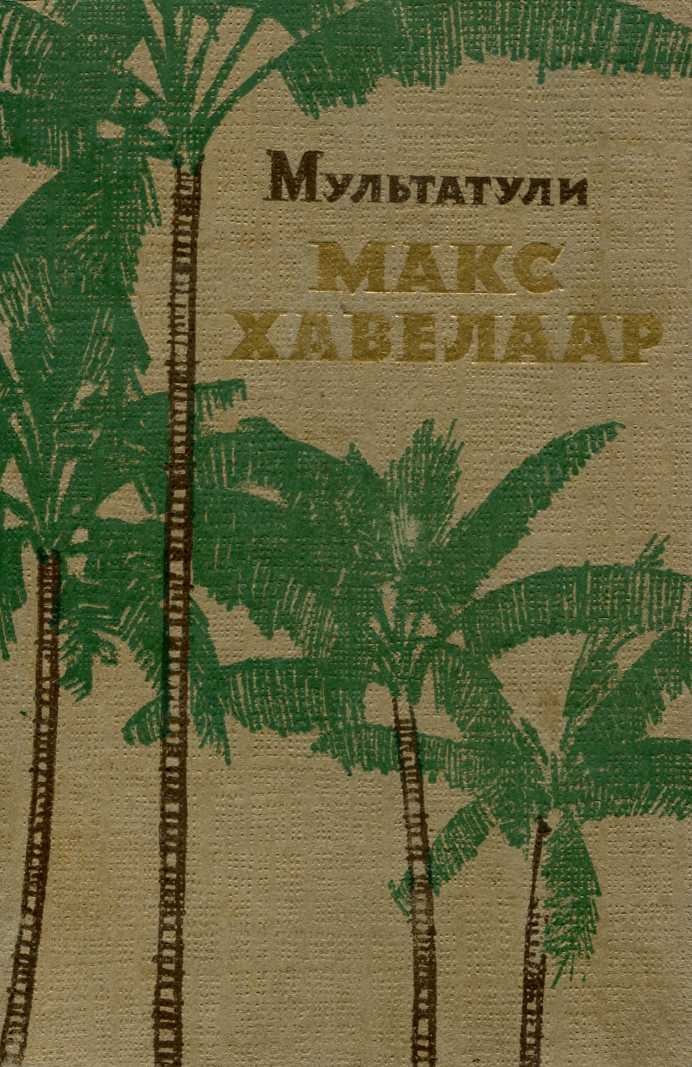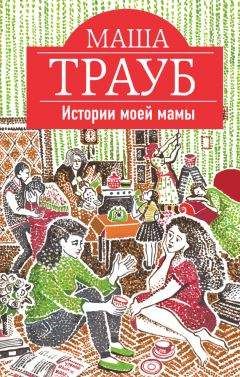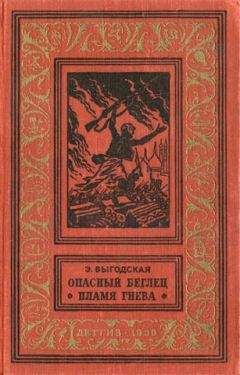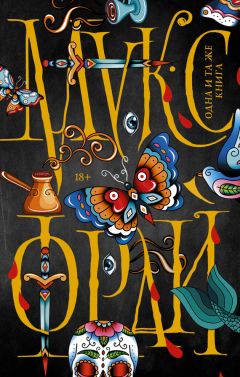насколько прекрасно наше призвание? Но все то, что я только что сказал, я, собственно, должен был бы услышать от вас. Я знаю вас так же хорошо, как и тех людей, которые занимаются гарем-глапом [96] на южном берегу; я знаю, что вы порядочный человек; но почему вы мне не сказали, что здесь так много непорядков? Вы ведь в течение двух месяцев замещали ассистент-резидента, и, кроме того, вы давно уже здесь состоите контролером, так что вы должны были все это знать, не правда ли?
— Господин Хавелаар, я никогда не служил под началом такого человека, как вы. В вас есть что-то особенное, не в обиду вам будь сказано.
— Отнюдь нет, я и сам знаю, что я не такой, как все другие. Но какое это имеет отношение к делу?
— То отношение, что вы внушаете человеку понятия и идеи, которых раньше у него не было.
— Нет, нет, они были, но лишь дремали под проклятой рутиной, находившей свое выражение в таком стиле, как «имею честь», и успокоение своей совести в «полном удовлетворении правительства». Нет, Фербрюгге! Не клевещите на себя, вам нечему у меня учиться... Например, сегодня утром, во время себа, разве я сказал что- либо новое для вас?
— Нет, это было не новое... но вы говорили о нем иначе, чем другие.
— Да, оттого, что мое воспитание было запущено, я говорю резко. Но скажите мне, почему вы относитесь так спокойно ко всем непорядкам в Лебаке?
— До сих пор здесь еще никто не проявлял инициативы против них бороться. Да и, кроме того, в здешних местах всегда так было.
— Да, да, это я понимаю... Не могут же все оказаться пророками или апостолами... дерева не хватило бы для распятий. Но ведь вы согласны помочь мне привести все в порядок? Вы ведь хотите выполнить ваш долг?
— Конечно, в особенности под вашим руководством. Но не всякий так строго требовал бы этого или так строго судил бы; кроме того, очень легко попасть в положение человека, борющегося с ветряными мельницами.
— Нет! Так говорят только те, кто любит несправедливость, ибо они живут ею. Они утверждают, что несправедливости нет, чтобы иметь возможность изобразить вас и меня в виде дон-кихотов, и в то же время оставляют на полном ходу свои мельницы. Но вот что, Фербрюгге, вам вовсе незачем было ждать меня для того, чтобы выполнить ваш долг. Господин Слотеринг был человек толковый и честный; он знал, что вокруг него делается, он этого не одобрял и противился. Посмотрите-ка! Чья это рука?
— Это почерк господина Слотеринга.
— Верно. Это заметки, касающиеся, по-видимому, вопросов, о которых он хотел говорить с резидентом. Здесь идет речь, смотрите, во-первых, о культуре риса, во-вторых, о жилищах деревенских главарей, о сборе земельных податей и так далее. Под заметками стоят два восклицательных знака. Что думал этим сказать господин Слотеринг?
— Как могу я знать? — воскликнул Фербрюгге.
— А я знаю! Это значит, что земельных податей собирается гораздо больше, нежели их поступает в окружную кассу. Но я вам покажу еще нечто, что поймем мы оба, потому что оно написано буквами, а не восклицательными знаками. Посмотрите-ка:
«12) О злоупотреблениях по отношению к населению со стороны регентов и главарей более низких рангов (содержание некоторых зданий за счет населения и т.д.)».
Ясно? Как видите, господин Слотеринг не был лишен инициативы, и вы вполне могли бы к нему примкнуть. Слушайте дальше:
«15) В расчетных ведомостях значатся многие лица из семейств и свиты туземных главарей, которые не принимают участия в работе, так что на их долю приходятся выгоды, в ущерб интересам действительных участников. Кроме того, те же лица незаконно получают в свое владение поля, тогда как последние должны принадлежать лишь тем, кто участвует в их обработке».
Здесь еще одна заметка. Вот эта, карандашом. Тут уже совершенно ясно:
«Уменьшение населения в Паранг-Куджанге следует отнести исключительно за счет громадных злоупотреблений, совершаемых по отношению к его жителям».
Что вы на это скажете? Вы видите, что я не так уж эксцентричен, как это кажется, когда пытаюсь поставить вопросы права на реальную почву, другие это тоже делали.
— Это правда, — ответил Фербрюгге, — господин Слотеринг не раз говорил обо всем этом резиденту.
— И что за этим следовало?
— Тогда вызывали регента и объяснялись с ним.
— Отлично, а дальше?
— Регент обыкновенно отрицал все. Тогда появлялась необходимость в свидетелях... Однако никто не решался свидетельствовать против регента... Ах, господин Хавелаар, все это так трудно!
Еще прежде чем читатель дочитает мою книгу до конца, он будет знать столь же хорошо, как и Фербрюгге, почему это было столь трудно.
— У господина Слотеринга было много огорчений по этому поводу, — продолжал контролер, — он писал резкие письма главарям.
— Я их прочел этой ночью, — сказал Хавелаар.
— И я не раз слышал, как он говорил, что если не произойдет никаких изменений и что если резидент не вмешается, он прямо обратится к генерал-губернатору. Это же он говорил и самим главарям на последнем себа, на котором он председательствовал.
— Это было бы совершенно неправильно с его стороны: резидент являлся его начальником, которого ему ни в коем случае не следовало обходить. Да и к чему? Ведь нельзя же предположить, что резидент Бантама одобрил бы бесправие и произвол?
— Одобрил... нет, но обвинять перед правительством туземного главаря не особенно приятно...
— Мне тоже неприятно обвинять, все равно кого, но если это нужно, то для меня нет разницы между главой туземного правления или кем-либо другим. Но об обвинении здесь, слава богу, нет еще речи. Завтра я посещу регента. Я заявлю ему о недопустимости незаконного пользования властью, в особенности когда дело идет о достоянии бедных людей. Но пока все придет в порядок, я постараюсь, насколько смогу, помочь ему в затруднительных обстоятельствах. Вы понимаете теперь, почему я велел тотчас уплатить деньги сборщику? Затем я намерен просить правительство