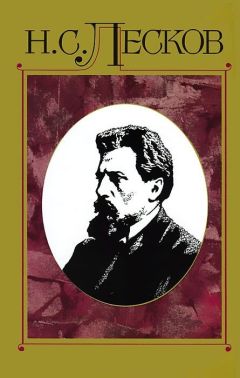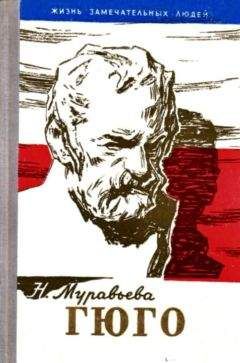Пораженный необъятностью, он обратился к молитве.
Прошло несколько часов.
Встало ослепительное солнце.
Первый луч его осветил на вершине Большого Дувра неподвижную форму. То был Жилльят.
Он лежал, распростертый на скале.
Оледеневшая, окостеневшая нагота не двигалась, не вздрагивала больше. Закрытые веки были бледны. Трудно было бы сказать, что это не труп.
Солнце как будто смотрело на него.
Если этот человек еще не умер, то он был так близок к смерти, что малейшего холодного дуновения было бы достаточно, чтобы порушить его. Но пахнул теплый и живительный ветер, весеннее дыхание мая.
Солнце поднималось в глубокой лазури неба; лучи его зарделись. Свет стал теплом. И обдал Жилльята.
Жилльят не двигался. Если он дышал, то таким слабым дыханием, что оно не затуманило бы и зеркала. Солнце продолжало свой путь, бросая на Жилльята все менее и менее косвенные лучи. Ветер, сначала бывший только теплым, теперь сделался горячим.
Неподвижное и обнаженное тело все еще было без движения. Только кожа казалась не так синею.
Солнце, приближаясь к зениту, упало отвесно на вершину Дувра и щедро озарило ее светом; к этому присоединилось бесконечное отражение ясного моря: скала начала согреваться и согрела человека.
Жилльят вздохнул.
Он был жив и шевельнулся.
Морские птицы, знавшие Жилльята, кружились над ним в тревоге. Но в этой тревоге было что-то нежное, братское. Они слегка вскрикивали, будто окликая его. Чайка, любившая его вероятно, подлетела совсем близко. И принялась говорить ему что-то. Он не слышал. Она прыгнула к нему на плечо и слегка коснулась губ его.
Жилльят открыл глаза.
Птицы переполошились и улетели.
Жилльят поднялся на ноги, вытянулся, как пробуждающийся лев, побежал на край платформы и посмотрел вниз в Дуврский пролив.
Там стоял «Пузан», целехонький. Втулка удержалась; море, вероятно, не много ее тревожило.
Все было спасено.
Силы Жилльята восстановились.
Он выкачал воду из «Пузана», и щель поднялась выше уровня воды. Тогда он весело оделся, попил и поел и затем провел целый день за починкой.
На другой день, на заре, разобрав изгородь и открыв ход в пролив, Жилльят с семьюдесятью тысячами франков в поясе, стоя на «Пузане» возле спасенной машины, вышел из Дуврского ущелья.
Нынешний С<ен>-Сампсон — почти город; сорок лет тому назад С<ен>-Сампсон был почти деревней.
С наступлением весны и с прекращением зимних вечеров там переставали полуночничать, а ложились спать с закатом солнца. Там вставали с рассветом и ложились с закатом.
С<ен>-Сампсон, за исключением нескольких богатых мещанских семейств, населен каменоломами и плотниками. Его порт существует для починки судов. Там каждый день происходит ломка камня или выпиливание досок; тут кирка, там молоток. Нескончаемая работа над дубом и гранитом. Вечером эти труженики падают от усталости и спят мертвым сном.
Однажды вечером, в начале мая, поглядев несколько минут на молодой месяц за деревьями и послушав шаги Дерюшетты, которая гуляла одна в ночной прохладе, в саду Браве, месс Летьерри возвратился в свою комнату, выходившую окнами на порт, и лег. Дус и Грас были в постели. Кроме Дерюшетты, все в доме спали. Спали также все и в С<ен>-Сампсоне. Ворота и ставни были везде заперты. На улицах не было прохожих. Несколько редких, светящихся точек, подобно миганью глаз, готовых угаснуть, мерцали там и сям сквозь слуховые окна на крышах, — знак, что ложилась спать прислуга.
Популярность месса Летьерри в С<ен>-Сампсоне зависела от его успеха. Кончилась удача, настало запустение. Надобно думать, что несчастье прилипчиво и что люди, которым не везет, заражены чумой, — от них сторонятся. Теперь женихи уже обегали Дерюшетту. Безлюдье вокруг Браве было теперь таково, что там не знали даже крупного местного события, наделавшего в тот день шуму во всем С<ен>-Сампсоне. Ректор С<ен>-Сампсона, преподобный Жоэ Эбенезер Кодрэ, разбогател. Его дядя, величавый декан Асафа, умер на днях в Лондоне. Известие об этом было доставлено почтовым шлюпом «Кашмир», прибывшим из Англии в то же утро: мачта его была видна в Петровском рейде. «Кашмир», должен был уйти обратно в Соутгэмптон назавтра в полдень, и, как говорили, на нем предполагал отправиться преподобный ректор, вызванный на короткий срок в Англию, чтобы официально вскрыть завещание и исполнить другие неизбежные формальности, сопряженные с получением большого наследства. Во весь день в С<ен>-Сампсоне ходили смутные толки. «Кашмир», преподобный Эбенезер, смерть его дяди, его богатство, его отъезд, его возможные повышения в будущем — были предметами говора. Оставался молчаливым один только не получивший известий дом — Браве.
Месс Летьерри, не раздеваясь, бросился в свою койку.
После бедствия, постигшего «Дюранду», койка была его убежищем. Он ложился, это было ослабой, отдохновением, перерывом мыслей. Спал он? Нет. Бодрствовал? Нет. Собственно говоря, целых два с половиной месяца месс Летьерри был как бы в лунатизме. Он еще не опомнился. Он был в том смешанном и рассеянном состоянии, которое известно всем, испытавшим глубокое уныние. Его размышления не были мыслями; его сон не был отдыхом. Днем он не был человеком бодрствующим; ночью он не был человеком спящим. Он был то на ногах, то в постели — вот и все. Лежа в своей койке, он немного забывался и называл это сном; над ним витали грезы; ночная мгла, исполненная смутных образов, носилась в его голове; император Наполеон диктовал ему свои записки, было несколько Дерюшетт; на деревьях сидели какие-то странные птицы; улицы Кон-ле-Сонье обращались в змей. Ночное удушье было перерывом отчаяния. Ночью он бредил, а днем грезил.
Для Летьерри, в настоящем состоянии души его, было только одно ясное видение — улыбка Дерюшетты. Кроме этой улыбки, все было мрачно.
С некоторых пор, конечно, вследствие исчезновения «Дюранды», производившего свое влияние и на Дерюшетту, она стала реже улыбаться своей очаровательной улыбкой. Она казалась озабоченною. Резвость, напоминавшая в ней птичку и ребенка, угасла. Утром, при выстреле из зоревой пушки, она уже не приседала, глядя на солнце, и не говорила ему: «Здравствуй! добро пожаловать!» По временам она казалась даже очень серьезной, — печальный признак в этом милом существе. Она, однако, делала усилия, чтобы улыбаться месс<у> Летьерри и развлекать его, но ее веселость блекла с каждым днем и покрывалась пылью, как крыло бабочки, проткнутой булавкою. Прибавим, что от скорби ли, вызываемой скорбью ее дяди, — потому что есть скорби, отражающиеся и на других, — или по иным причинам, только она теперь выказывала сильную наклонность к религии. При прежнем ректоре, г. Джакмэне Героде, она ходила в церковь только четыре раза в год. Теперь она бывала там очень часто. Она не пропускала ни одной службы, ни по воскресеньям, ни по четвергам.
По вечерам, каждый раз, когда позволяла погода, она прогуливалась час-другой в саду Браве. Она была там почти столь же задумчивая, как и месс Летьерри, и почти всегда одна.
Что касается до месс Летьерри, то в ту минуту, когда мы возвращаемся к нему, он был все еще мрачен, но уже не был угрюм; к нему возвратилась некоторая восприимчивость к явлениям и событиям.
Так, днем, в нижней зале, он не слушал разговоров между людьми, но слышал их. Однажды утром Грас прибежала вне себя от радости к Дерюшетте с известием, что месс Летьерри сорвал обертку с одной газеты.
Эта полувосприимчивость в действительности служит, сама по себе, хорошим признаком. Вспомнить обо всем — значит обо всем жалеть. Вот это-то и чувствовал Летьерри.
Он был возвращен к чувству действительности потрясением.
Скажем об этом потрясении.
Однажды пополудни, около 15 или 20 апреля, в нижней зале Браве послышались два толчка в дверь, возвещающие обыкновенно о прибытии почтальона. Дус отворила. Точно, с почты принесли письмо.
Это письмо получено было с моря. Оно было адресовано к мессу Летьерри. На нем был штемпель Lisboa[14].
Дус отнесла это письмо к месс Летьерри, который сидел запершись в своей комнате. Он взял письмо и машинально положил на стол, не взглянув на него.
Это письмо с добрую неделю оставалось на столе нераспечатанное.
Однако в одно утро Дус сказала месс Летьерри:
— Надо ли, сударь, стереть пыль с вашего письма?
Летьерри словно пробудился от сна.
— Ах, да! — сказал он. И он раскрыл письмо. Вот что он прочел:
«В море, 10 марта.
Месс Летьерри, в С<ен>-Сампсоне.
Вы получите обо мне известие с удовольствием.
Я на «Тампалите» на пути в «Поминай как звали». Есть в экипаже матрос Айе-Тоствен из Гернсея: он возвратится и много кой-чего порасскажет. Пользуюсь встречей с кораблем «Гернан Кортес», идущим в Лиссабон, и с ним препровождаю к вам это письмо.