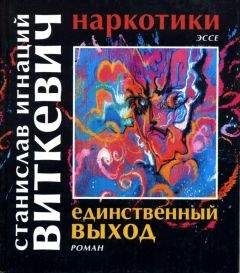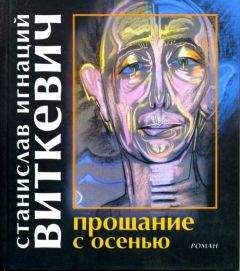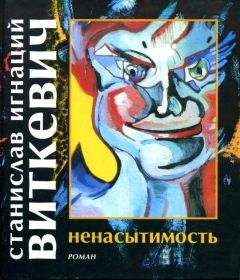Это единство (реальности) прекрасно, без малейшей гнусной метафизичности, укладывалось в отрицательном смысле в то, что понятия единства личности и качества суть взаимоимплицирующие понятия[124], поскольку они обозначают несамостоятельные моменты одного и того же положения вещей, Существования вообще — но этого в такой форме Изидор понять пока еще не мог, более того — не имел на то права.
Жажда единства стала в Изидоре столь сильной, что парализовала в нем возможность дальнейшего анализа: эта пара понятий, через которую он никак не хотел перескочить, сдерживала неотвратимо надвигавшуюся из центров интеллектуальной честности (столь редкой у нас в литераторской среде) волну истинных сомнений, а не какого-то там дешевого скептицизма à la Хвистек.
Однако вернемся к откровениям. Так вот, то, что теософ Тимбчо (Литимбрион Тайтельбург) назвал откровением и считал чуть ли не сознательной деятельностью некой высшей, чуть ли не личностной, охватывающей весь мир, силы и что он, непосредственно опираясь на бредни Бергсона, «более научно» (хи-хи!) определял как «интуицию», было всего лишь так называемым «самозарождением определенных мыслей». Как таковой процесс их «самозарождения» не отличался от таких же процессов самозарождения других мыслей, а также — чувств, фантазий, воспоминаний и т. п. Все как будто само является нашему сознанию: мы не в силах установить причинно-следственные связи, почему все так, а не иначе, мы не знаем и никогда знать не будем, несмотря на разные приблизительные предположения, даже если физика определит (что в общем-то нонсенс) точное расположение каждого электрона в мозгу. (От этого она отказалась, во всяком случае теперь — вообще полностью.) Различия во взглядах на «откровения метафизических истин» имелись только в тематике, механизм оставался тем же при всех вариантах психической жизни, или, прибегая как к сокращению (как к сокращению, говорю я) к брентано-гуссерлевскому понятию (чтоб в аду ему гореть в качестве несводимого понятия), «акт» был тот же самый, а материя его была иной. Только потому, на основе этой материи, кажущееся необъяснимым (впрочем, как в определенном смысле все) появление мыслей, например, затрагивающих суть бытия и этики (пусть даже банальных, а то и вовсе глупых мыслей), считалось откровением; если бы это касалось вопросов обеда и полового сожительства или даже астрономии, оно не заслужило бы столь высокого имени.
А механизм был очевиден в тех, разумеется, пределах, в которых все является очевидным: то, что в эту минуту, например, я думаю о пани Гжешкевич, а не о Фикумику, собачке панны Темпняк; до определенного момента это еще можно объяснить, но вот после некоей границы — абсолютная тайна. Впрочем, люди, захваченные старыми физикалистскими теориями, до сих пор полагают, что, в конце концов, если бы все можно было знать (демон Лапласа, перелетевший на почву психологии), то можно было бы оправдать каждую мыслишку, что мол она именно такая, а не какая-нибудь иная. А всякие так называемые мысли «о сути бытия» проистекают из первичного факта ощущения личного пространственно-временного единства и из противопоставления (также непосредственного в самом факте существования индивида самого для себя) тому, что им не является — бесконечному во Времени и Пространстве миру; безграничности этих последних сущностей пока что достаточно — в этом имплицитно содержится бесконечность, которую мы понятийно вышелушиваем из представления о себе, подобно тому, как по мере перемещения во Времени и Пространстве мы никогда и нигде не встретим конца; и тут же после пары таких попыток, по причине однородности этих сущностей, мы видим, что все это должно уходить в бесконечность: понятие неограниченности подразумевает понятие бесконечности — единственно истинное синтетическое априорное суждение. А понятие «акта» означает только определенные специфические и обязательные в связи с понятием Единичной Сущности = (ЕС) последовательности качеств и их связи.
Довольный своими сегодняшними открытиями, Изидор начал насвистывать какое-то танго собственного, кажется, сочинения и, засмотревшись на догоравшее за тонкой грядой облаков оранжевое солнце, совершенно забыл, кто он, что он, и что у него есть жена, и что он м о ж е т и м е т ь р е б е н к а; чувство безумной ответственности за судьбу неведомого создания в такое лихое время — вот что пугало его больше всего.
— Ха, формулы, где переменными служат ценности, отличные от повседневных, — пробормотал он, имея в виду «интуитивное постижение» онтологических истин, и внезапно пришел в себя: он снова был Изей, служащим: жена, чаек — вот оно, стало быть, как. С отдаленных окраин прилетел таинственный дух и снова вселился в жалкое тело функционера Пэ-Зэ-Пэпа, изводя непонятной мукой его нервные клетки. Вздор. Существует абсолютное единство так называемого тела с духом, т. е. длительности = (АД) самой для себя (т. е. сознания) и протяженности = (АП) самой для себя. Первичное сознание какой-нибудь амебы — это всего лишь осознание ею тела, все остальное — гиперконструкция, которая, будучи духом, узурпировала первенство и которую точно так же, как и все прочие вещи, можно свести — за ногу ее дери — к последовательности качеств. Приведенная фраза — всего лишь литература, жалкое говнецо человечества по сравнению с философией. Что же касается интуиции, то в качестве жизненного понятия, означающего способность угадывать что-нибудь по слабым, недосягаемым для остальных, может быть, даже подсознательным данным, например, по психике данного индивида и его действиям, или по характеру протекания данной ситуации, — она может и дальше функционировать среди людей невзыскательных в плане чистоты понятий (эта чистота — столь же похвальная привычка, как и физическая чистоплотность, невозможность ходить небритым и в грязном белье). Но гоните ее прочь из тех сфер, где она становится лишь маской, прикрывающей глупость и понятийную безответственность.
И вдруг — страшная вспышка, как будто близкий взрыв гранаты в солнечный день: оранжевый блеск, сильнее солнечного света в рваном черном облаке дыма и комьях летящей земли — близкая вспышка мысли, необычайной по своей смысловой заурядности и безграничной психологической странности. Мысль-чудовище, раздутая благодушием и скукой, как из ушата выплеснутая на род людской: сама свободная от скуки и лоснящаяся, как мокрый морской лев или груда драгоценных камней, от проступившей в ней р а з г а д к и т а й н ы м и р о з д а н и я.
«Что ж это за мысль за такая, черт бы ее побрал?» — спросит всякий. Мысль, столь страшная для философа, что Изидор даже не посмел зафиксировать ее, пусть даже только ему понятными знаками, просто мысль, что, возможно (о Боже, Боже!), мир всего лишь таков, каков он есть, без каких бы то ни было проблем, а вся философская проблематика, буквально вся, т. е. за исключением житейских, социальных, национальных и даже — позволим себе чрезмерную мягкость — религиозных взглядиков и проблемок, — это иллюзия пары шизоидов, каким-то адским внушением навязанная всему человечеству. Минуточку! Это предложение не так легко понять, как могло бы показаться! В развернутом виде оно выглядит следующим образом:
«Возможно, здравый смысл, обыденный житейский взгляд — истинен, и баста — все «кульбитнуло» — может, как раз так оно и есть, как нам при нормальном настрое на мир представляется, как думают сотни тысяч псевдоинтеллигентных человеческих скотинок и даже тысячи мудрецов, когда они сориентированы на выполнение повседневных функций в обычный, да и в необычный день. Мы существуем сами для себя, есть и другие похожие и не похожие на нас живые создания, есть и просто мертвые предметы (а как же без них — никак), о которых физика говорит то-то и то-то (что касается физики, то мы себя психологистически-идеалистически-математически успокоили, и нас уже ничуть не удивляет, что существуют так называемые частицы или пучки волн, с одной стороны, а с другой — ощущения, ибо физика — это всего лишь группы символов, подобранных под наши ощущения, а предметы — не только электроны — это тоже всего лишь наши ощущения), точно так же мы успокаиваем себя на тему связи физики с биологией. Потом есть какие-то шары в бесконечном пространстве (а может, и в конечном, как говорит нам модная нынче физикальная теория), и ничего в этом нет такого уж страшного, ибо на каждом из имеющих право быть с физической точки зрения шаров господствует тот же взгляд на жизнь, что и на нашем шаре, если там вообще кто-нибудь есть. Что же тут удивляться, что удивляться?» Изидор «zamyczał od wnutrennoj boli», как Алексей Александрович Каренин, когда заметил «wojennoje palto grafa Wronskogo».
Все это понятийно содержалось в данной мысли, но как переживание выглядело несколько иначе = действительность: далекие горы с маленькими известковыми скалами и красные крыши домов, окружающих игрушку-дворец в стиле рококо в излучине реки, подернутые осенней предвечерней дымкой, внезапно заскочили ему в горло, а точнее — в самую глотку его мозга (в то воображаемое место, которым мозг «заглатывает мир» с помощью чувств) и искривленными в четвертом измерении когтями уайтхедовских «event»[125]’ов впились в него, как именно эта реальность, а не какая-то другая, одна-единственная реальность данного «космического аборигена» во всей ее частичной случайности, реальность в последней инстанции, вне которой ничего нет, ничто не кроется и крыться не может, причем не может крыться не только иная реальность, но и даже самая маленькая проблемка, выходящая за последний порог чисто житейской, практической проблематичности, вплоть до высших вопросов личной и общественной этики, — все это не подразумевает наличие метафизики как таковой — должно было бы быть окрашено метафизической странностью, а этого-то как раз, исходя из той мысли, которую в некоем сконцентрированном виде переживал Изидор, быть не могло. Все (понимаете ли вы, ослы, чудовищную глубину этого слова?), все таково, каково оно есть: принцип тождества как «метафизическое переживание» — это «нечто просто возмутительное», как сказал бы Кароль Шимановский.