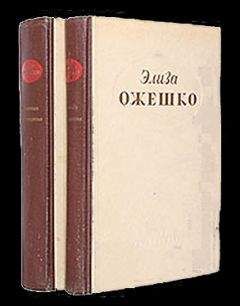Монолог сопровождался соответствующими жестами и модуляциями голоса, и граф Август хохотал до слез.
— Ах ты, проказник! — воскликнул он и, обхватив голову сына, звонко чмокнул его в белый, по-девичьи гладкий лоб. — Ну и насмешил! Но маменька с доченькой, кажется, совсем непохожи на провинциальных дурочек. Цегельский видел их и говорит…
— Цегельский подслеповат, — перебил Вильгельм, — кроме того, ему могло невесть что померещиться от страха — порученьице-то было не из приятных! Голову даю на отсечение, что они — провинциальные дурочки. Но это не беда! И у дурочек бывают смазливые мордашки! В жизни надо все испытать! Итак, лечу, дома буду около четырех… после завтрака у Аврелии! Bonjour, papa!
Трудно передать радость Цезария, когда Вильгельм, пулей влетев к нему в комнату, объявил, что немедленно, сию минуту, хочет ехать с визитом к его невесте.
— Надо загладить вину наших родственников, которые не хотят с ней знаться, — полушутя-полусерьезно сказал Вильгельм. — Женишься ты на ней или нет — не мое дело, но раз ты влюблен, я, как хороший брат, хочу с ней познакомиться.
Еще трудней описать, какое впечатление произвело в гостиной Книксенов появление двух графов сразу.
Цезарий был счастлив представить невесте хотя бы одного родственника.
Мамаша Книксен держалась как великосветская дама. Генрик оказался тем, кем и слыл в уездном обществе — молодым человеком extrêmement bien во всех отношениях. По телу Делиции под пышными оборками серебристого платья с голубой отделкой пробежала дрожь, но она поборола волнение и ответила на приветствие гостя с таким достоинством и грацией, таким очаровательным смущением на чуть зардевшемся лице, что Вильгельм, прежде чем сесть, посмотрел на это чудо красоты и невинности долгим томным взглядом.
Самый придирчивый глаз не нашел бы в них ничего, что обычно выдает провинциалов. Когда первый визит (ему полагалось по этикету быть коротким) подошел к концу, Цезарий проводил Вильгельма до подъезда.
— Поздравляю, Цезарий, у тебя недурной вкус! — сказал Вильгельм. — Твоя невеста красива и мила и вдобавок, кажется, неглупа! Не слушай никого и женись! Это сущий клад! — А когда осчастливленный Цезарий молча жал ему руку, он прибавил: — Да, кстати, я напросился к ним на завтра в гости… Правда, это не принято. Но я противник светских условностей. Главное, самому получить удовольствие и доставить его другим, а остальное — ерунда! Значит, завтра в час я за тобой заеду, и вместе отправимся к ним. Хорошо?
Цезария так обрадовало внимание двоюродного брага к его невесте, что он сотни раз готов был повторять: «Хорошо!» Поднимаясь по лестнице, он поклялся Вильгельму в верности до гроба и, случись в этом надобность, не колеблясь, кинулся бы для него в огонь и воду.
Но радость Цезария была омрачена странной переменой, происшедшей в его отсутствие с дамами. Пани Книксен в продолжение всего дня была задумчива и как будто чем-то расстроена; время от времени она бросала тревожные взгляды на дочь, а та, бледная, с лихорадочно блестящими глазами, сидела молча, едва отвечая жениху.
Поздно вечером Цезарий решился на отчаянный поступок — взял невесту за руку и, заглядывая в полуопущенные глаза, робко и тихо заговорил о близкой свадьбе. Но Делиция вдруг вскочила и, закрыв лицо батистовым платком, с громким плачем выбежала в соседнюю комнату и захлопнула дверь. Мать выскочила следом за ней, но скоро вернулась — расстроенная, в слезах — и сказала, что ее беспокоит здоровье дочери у которой в последнее время бывают нервные припадки. Она думает, не откладывая, завтра же пригласить на консилиум варшавских светил.
Но на следующий день услуги светил не понадобились: барышня свежая, как лилия, с кокетливой улыбкой на влажно поблескивавших коралловых губах как ни в чем не бывало встретила в гостиной молодых людей. Цезарий еще не оправился после вчерашнего потрясения, и на лице его лежала печать беспокойства и грусти, И по сравнению с его бледным лицом и поникшей фигурой особенно выгодно выделялся живой, веселый красавец Вильгельм. Он то и дело подсаживался к Делиции, непринужденно болтал с ней и просил разрешения называть ее заранее сестричкой.
Это разрешение ему было дано среди взаимных улыбок и взглядов, в которых наблюдательный человек заметил бы нечто большее, чем просто светскую любезность и родственные чувства: в них выражалось неудержимое влечение двух пылких натур друг к другу. От мечтательной жаждущей любви девицы к беззаботному, как птица, юноше, привыкшему к легким победам, пробегали невидимые магнетические токи, и, казалось, воздух вокруг был насыщен страстью.
Вильгельм просидел у них два часа; время приближалось к обеду, а он не собирался уходить. Наконец, смеясь и бросая умоляющие взгляды на пани Книксен, он воскликнул:
— Comme j’aime papa![408] Делайте со мной что хотите, но добровольно я отсюда не уйду. Зовите лакеев, велите выносить меня на руках, но предупреждаю — я буду сопротивляться…
Разумеется, обе дамы и Генрик поспешили его уверить, что будут польщены, если он останется у них обедать и пить чай.
— Мы, провинциалы, — с обворожительной улыбкой прибавила пани Книксен, — не придаем слишком большого значения этикету, и добрые друзья нам дороже чопорных гостей.
Вильгельм с ужимками избалованного расшалившегося ребенка поцеловал у пани Книксен руку и снова подсел к Делиции:
— Не правда ли, мы с вами брат и сестра?
— Решено и подписано, — улыбнулась Делиция.
— Значит, я — очень несчастный брат, а вы — плохая сестра.
— Почему?
— Позвольте по-братски поблагодарить вас за разрешение остаться — тогда я буду счастливым братом.
Делиция вспыхнула и надменно посмотрела на него.
— Граф! Я из тех сестер, которые умеют наказывать невоспитанных братьев, — сказала она и отошла к окну, где стоял Цезарий, и с кокетливой улыбкой стала ему что-то говорить. Вильгельм следил за ней с нескрываемым восхищением, а когда она подняла на Цезария ласковые, голубые глаза, он отвел взгляд, и лицо его омрачилось.
Пани Книксен была мастерицей устраивать интимные дружеские обеды; никто не умел так искусно, как она, направлять разговор и поддерживать за столом веселое, приподнятое настроение. Ей по мере сил помогали дети: сын спокойно, со знанием дела, дочь — с пленительной застенчивостью.
За обедом Вильгельма окончательно покорило и очаровало это милое, радушное семейство. Цезарий молча любовался веселыми, оживленными лицами; он добровольно уступил двоюродному брату первенство, и тот всецело завладел разговором и вниманием дам. Когда встали из-за стола, Цезарий взял Вильгельма под руку и, отведя в сторону, шепнул на ухо:
— Правда, она очаровательна? И все они такие милые и добрые?
— Да, да, Цезарий! — искренне подтвердил Вильгельм. — А я и не подозревал, что на литовских болотах растут такие чудесные цветы. Ты, Цезарий, родился в сорочке, я тебе завидую!
Ce pauvre César впервые в жизни торжествовал победу: его лицо светилось счастьем, движения обрели Уверенность и силу. Он был красив внутренней, духовной красотой; душа этого юноши, долгие годы скованная оцепенением, а теперь пробужденная возвышенными чувствами и мыслями, озаряла его волшебным светом.
Но Делиция в этот день меньше, чем когда бы то ни было, обращала внимание на своего жениха, на его оду-х°творенную красоту, рожденную любовью к ней и предназначенную для нее. Зато два часа проболтала она с Вильгельмом об операх, которые слушала с матерью на прошлой неделе.
Вильгельм в самом деле обожал музыку и жить без нее не мог. Оперы и концерты разных знаменитостей составляли для него главную прелесть европейских столиц. Музыка имела над ним огромную власть, словно в душе у него были натянуты чуткие к малейшему прикосновению струны.
Разговор о музыке, естественно, привел молодую пару к фортепьяно, возле которого стояла этажерка с нотами. Как знать, не встретилась ли белоснежная, дрожащая от волнения рука Делиции с горячей рукой Вильгельма, когда они искали на этажерке свои любимые романсы. А через четверть часа их чистые, как хрусталь, и, как сама юность, сильные голоса слились в мелодичном, нескончаемом дуэте.
Делиция сидела за фортепьяно, Вильгельм стоял позади и опирался рукой на спинку ее стула; его глаза были устремлены не на раскрытые на пюпитре ноты, а на пышные, волнистые волосы юной музыкантши.
За первым романсом последовал второй, потом пела соло Делиция, потом — Вильгельм, а она аккомпанировала. Их голоса, подобно льнущим друг к другу языкам пламени, то плавно и согласно сливались, то взмывали ввысь, к недосягаемым вершинам счастья и любви.
Они пели в тот вечер очень долго, словно их силы питал неиссякаемый источник, забивший в их серд-цах.
Пани Книксен сидела на диване молчаливая и неподвижная, не спуская тревожных и счастливых глаз с молодой пары. С таким трудом и искусством спряденная ее руками тонкая нить будущности дочери рвалась на глазах.