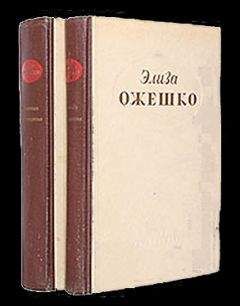Они пели в тот вечер очень долго, словно их силы питал неиссякаемый источник, забивший в их серд-цах.
Пани Книксен сидела на диване молчаливая и неподвижная, не спуская тревожных и счастливых глаз с молодой пары. С таким трудом и искусством спряденная ее руками тонкая нить будущности дочери рвалась на глазах.
Правда, рядом нежданно-негаданно протянулась другая, более блестящая. Но достаточно ли она прочна, чтобы выдержать груз ее упований и надежд? А вдруг обе нити лопнут, исчезнут в тумане тщетных иллюзий и ловкие пряхи останутся с пустыми руками? Вот какие мысли и сомнения терзали пани Книксен.
Генрик — тоже любитель попеть и побренчать на фортепьяно, время от времени присоединялся к молодой паре. А Цезарий сидел в нише окна в полумраке и одиночестве и ничего не слышал, кроме голоса невесты. Он то, как волна, ласково баюкал его, то швырял в пенистые, бурлящие водовороты, а когда взмывал ввысь — к сверкающему небосводу и там бушевал, полный тоски и нетаимой страсти, по телу юноши пробегала сладостно-мучительная дрожь неведомого ему доселе восторга. Он не сомневался, как не сомневался в том, что живет и любит, что она поет для него и звуки ее голоса — это любовное признание, посылаемое ее сердцем его сердцу. И в ответ на эти призывы из полутемной ниши к залитой ярким светом девушке летели гимны беззаветной, лучезарной любви, слагаемые в душе Цезария. Его глаза, полуприкрытые рукой, то сияли, как звезды, то затуманивались слезами благодарности к той, которая подарила ему это необъятное счастье, вернула к жизни, пробудив в нем человека, способного любить, мыслить и дышать полной грудью.
Далеко за полночь стихли в гостиничном номере музыка, пение и разговоры, и мать с дочерью, оставшись наедине в полутемной комнате, посмотрели друг другу в глаза.
— Делиция! — тихо промолвила пани Книксен.
— Мама! — замирающим от волнения голосом прошептала Делиция, бросаясь к матери, и уткнулась головой ей в колени.
Лоб у нее горел, из глаз брызнули слезы.
— Делиция! Деточка моя бедная! — Пани Книксен склонилась над дочерью и обняла дрожащими руками ее за шею. — Как я боюсь за твое будущее! Как волнуюсь за тебя! Ну, хватит, не плачь, дитя мое, не то глаза опухнут и будешь завтра плохо выглядеть!
— Нет, мама, — сказала Делиция и подняла голову, — от таких слез не дурнеют! Я плачу от радости, это слезы счастья. Он любит меня! Он — мой идеал! Сколько дней и ночей я мечтала о нем! Ах, мамочка, как я могла жить без него, не видеть его лица, не слышать голоса, от которого замирает сердце!
Мать с испугом слушала страстное признание дочери.
— Делиция! А если ты ошибаешься? Если он тебя не любит?
Делиция выпрямилась.
— Нет, мама, не ошибаюсь… Он полюбил меня с первого взгляда, как и я, когда увидела его портрет!
— Успокойся, дорогая! Будь благоразумной. Спору нет, граф Вильгельм очень милый молодой человек, и ты ему понравилась. Но ты еще очень неопытна и не знаешь, что для этих господ любовь и женитьба — вещи разные!
— Не желаю ни о чем слышать! Не желаю быть благоразумной… Я впервые полюбила и счастлива!
— О боже! — со стоном вырвалось у пани Книксен. — Что же делать, как быть? Где взять уверенность! Нет, нет! Это мираж, строить твое счастье на такой зыбкой почве невозможно. Боюсь, дорогая, как бы мы не оказались на мели! Но, с другой стороны… Если у графа Вильгельма серьезные намерения… Он ведь тоже граф, а перед Цезарием у него еще и то преимущество, что он единственный сын и, значит, богаче… Ты его любишь… с этим тоже надо считаться. Ты будешь с ним счастлива, хотя Цезарий ласковей, мягче, его легче было бы прибрать к рукам. И потом мне его немного жалко — он такой добрый и так к нам привязан!
— Мне тоже его жалко, мамочка! Я питаю к нему дружеские чувства, он мне дорог, как друг… Но разве сравнишь его с Вильгельмом? Ведь против сердца не пойдешь…
— Да, в твоем возрасте приходится и с этим считаться… Все это верно, но как мать я обязана тебя предостеречь. Тебе выпал крупный выигрыш в жизненной лотерее, и если ты его упустишь, мы себе этого не простим… Послушай меня, деточка: об одном тебя прошу — будь с Цезарием еще приветливей и ласковей, чем раньше. И ты сразу убьешь двух зайцев. Заставишь ревновать Вильгельма и удержишь при себе Цезария, который ни о чем не будет подозревать… Если Вильгельм сделает предложение по всем правилам и при этом в ближайшие дни, мы согласимся, а бедного Цезария постараемся утешить, предложив ему взамен искреннюю дружбу. А если, чего я больше всего боюсь, ты для Вильгельма — лишь минутное увлечение, тогда ты забудешь о нем и у тебя про запас останется Цезарий… Хорошо, радость моя? Ты меня внимательно слушала и сделаешь то, о чем я тебя прошу?
— Мамочка, какой он красивый, стройный! Какие у него глаза! А голос! Как я люблю его! — прижимаясь головой к материнским коленям, шептала Делиция.
Было еще рано, когда Делиция с книжкой в руке вышла в гостиную. На ней было нарядное бледно-голубое платье, отделанное кружевами, а коса, с подкупающей простотой уложенная вокруг головы, заколота спереди двумя большими хрустальными звездами в золотой оправе. На свежем, как лилия, лице вчерашнее волнение и слезы не оставили никаких следов, кроме голубоватых теней под глазами, которые придавали ее взгляду интересную томность.
Задумчивая, с рассеянной улыбкой на печальном лице, она села на диванчик в углу гостиной, положила на колени раскрытую книгу, но читать не могла. Мысль с тоской и нетерпением от мелких, черных строчек устремлялась в далекие, необозримые просторы, к пленительным картинам будущего, возникавшим в воображении.
Вдруг она вздрогнула. На книжную страницу упала тень. Она резко повернула голову к двери, словно давно томилась в ожидании. Но на пороге стоял всего-навсего коридорный, держа в руке визитную карточку.
Делиция вопросительно посмотрела на лакея, не в силах вымолвить ни слова.
— Граф Вильгельм Помпалинский! — взглянув на визитную карточку, ответил он на ее немой вопрос.
— Проси! — едва слышно пролепетала Делиция и торопливо провела рукой по волосам, быстро расправила складки платья. Она была взволнована, но это не помешало ей позаботиться о своем туалете. Но вот волнение подавлено, бледно-голубое платье в надлежащем порядке и Делиция грациозно привстает навстречу гостю.
А гость стремительно вошел в гостиную и нетерпели-ео схватил протянутую из пены кружев белоснежную ручку — пожал ее, потом, метнув по сторонам быстрый взгляд, поцеловал. Делиция покраснела.
— А где мама? — спросил Вильгельм.
— Un peu indisposée![409] Встала поздно и еще одевается, — прошептали пурпурные уста, и их обладательница жестом указала гостю на кресло возле дивана.
По глазам гостя было видно, что он предпочел бы устроиться на диванчике рядом с бледно-голубым платьем, но пришлось покориться.
— Вы, наверно, думаете: вот наглец, всего три дня как знаком и уже бываёт ежедневно. Я становлюсь надоедлив, как осенний дождь…
— Мы… то есть я… знакома с вами не три дня… — подняв голову, сказала Делиция с полушутливой-полу-растерянной улыбкой.
— Comment! [410] Неужели я вас когда-нибудь видел? Non, c’est tout à fait impossible[411]. Мои глаза не замечают только уродливое, зато красота запечатлевается в них навеки.
Делиция кокетливо покачала головой.
— Но тем не менее — это так. Ваши глаза не видели меня до позавчерашнего дня, но наши души уже восемь месяцев общаются друг с другом…
— Vous m’intriguez sérieusement![412] — Вильгельм даже привскочил на кресле. — Значит, вы занимались спиритизмом и к вашим услугам был медиум, наделенный сверхъестественной властью?..
— О нет! — прозвучал мелодичный, как колокольчик, смех. — Медиум, который помог моему духу общаться с вашим, был в черном сюртуке, и каждый, кто хотел, мог за деньги пользоваться его услугами.
— О, какая проза! Но скажите, где обитает этот медиум? Может, тогда мои блуждающие в потемках мысли скорей найдут разгадку!
— Как же это называется… брат говорил мне, а-а, вспомнила, caméra obscura!
— Caméra obscura! Темная комната! — повторил Вильгельм. — Звучит таинственно! Значит, медиум появлялся из темной комнаты! А откуда появлялся мой дух, когда вы его вызывали?
— Это тайна! — засмеялась Делиция. — И я ни за что ее не выдам.
— А если я буду просить, умолять, заклинать… — говорил Вильгельм, все ближе придвигаясь к красавице.
— Ну так и быть, скажу, — с улыбкой сказала Делиция. — Он являлся мне на столе возле лампы в нашей гостиной…
— Dieu! Какой стыд и позор! Ходить по столам?! А здесь, в гостинице, он тоже обитает возле лампы? р, — Нет, в Варшаве я заточила его в темницу…