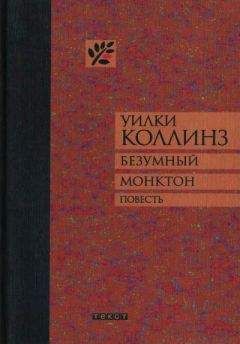Это было сказано глупцом: ему и в голову не пришло бы сказать это, если бы не его драгоценное письмо. Тем не менее это было прискорбно верным отголоском того, что происходило в моей душе, и почти буквальным повторением слов Нюджента, в которых он выразил при мне недоверие к самому себе. Я пожелала ректору доброй ночи и ушла наверх.
Луцилла уже спала, когда я тихо отворила ее дверь.
Поглядев несколько минут на ее милое, спокойное лицо, я принуждена была отвернуться и отойти от постели, потому что вид ее только усиливал мое уныние. Затворяя дверь, я бросила на нее последний взгляд и невольно повторила зловещий вопрос мистера Финча: «Можно ли положиться на него?»
Глава XXXIX
ОНА УЧИТСЯ ВИДЕТЬ
На следующее утро в уме моем возникли новые соображения не совсем приятного рода. В моем положении относительно Луциллы было серьезное затруднение, ускользнувшее от моего внимания, когда я прощалась с Нюджентом.
Броундоун был теперь пуст. Что мне сказать Луцилле, когда ложный Оскар не явится с своим обещанным визитом?
В какой лабиринт лжи втянуло нас всех первое сокрытие истины! Обман за обманом становились для нас необходимостью, неприятность за неприятностью были их заслуженным следствием, а теперь, когда я осталась одна преодолевать все трудности нашего положения, у меня, по-видимому, не было другого выбора, как только продолжать обманывать Луциллу. Мне это уже надоело, мне было совестно. За завтраком, узнав, что Луцилла не ожидает своего гостя раньше чем после полудня, я избегала дальнейших рассуждений об этом предмете. После завтрака я продержала ее некоторое время за роялем. Когда музыка надоела ей и она заговорила опять об Оскаре, я надела шляпку и ушла из дому по хозяйственному делу (такого рода, какие обыкновенно поручались Зилле) единственно для того, чтоб уйти и отложить до последней минуты печальную необходимость солгать. Погода благоприятствовала мне. Собирался дождь, и Луцилла не предложила сопровождать меня.
Исполнив свое дело, которое привело меня на ферму на дороге в Брайтон, я пошла дальше, несмотря на то что дождь уже накрапывал. На мне не было ничего такого, что могло бы испортиться, и я предпочла мокрое платье возвращению в приходский дом.
Когда я прошла около мили дальше, уединенная дорога оживилась появлением коляски, приближавшейся ко мне со стороны Брайтона. Верх коляски был поднят и защищал от дождя сидевшую внутри особу. Поравнявшись со мной, особа выглянула и остановила экипаж голосом, по которому я тотчас же узнала Гроссе. Наш любезный доктор настоял, чтоб я укрылась от дождя в его коляске и возвратилась с ним в приходский дом.
— Вот неожиданное-то удовольствие! — сказала я. — А мы полагали, что вы приедете только в конце недели.
Гроссе взглянул на меня сквозь свои очки со строгостью и величием, достойным мистера Финча.
— Разве признаться вам? — сказал он. — Вы видите пред собой погибшего глазного доктора. Я скоро умру. Напишите тогда на моем надгробном камне: «Болезнь, которая свела в могилу этого немца, была прекрасная Финч». Когда я не с ней, :
— пожалейте меня, — мне так недостает ее, что я умираю от тоски по молодой Финч. Ваша путаница с этими близнецами сидит у меня в уме, как какая-нибудь заноза. Вместо того чтобы храпеть на моей роскошной английской постели, я не смыкаю глаз по целым ночам и все думаю о Финч. Я приехал сюда сегодня раньше, чем назначил. Для чего? Чтобы взглянуть на ее глаза, вы думаете? Нет, сударыня, вы ошибаетесь. Не глава ее беспокоят меня. Глаза ее в порядке. Беспокойте меня вы и все другие в вашем приходском доме. Вы заставляете меня мучиться за мою пациентку. Я боюсь, что кто-нибудь из вас доведет до ее милых ушей вашу историю с близнецами и поставит все вверх дном в ее бедной головке. Не тревожьте ее еще два месяца. Ach, Gott, если бы я был в этом уверен, я оставил бы ее новые слабые глаза поправляться понемногу и возвратился бы в Лондон.
Я собиралась было сделать ему строгий выговор за прогулку с Луциллой в Броундоун. После того что он сказал теперь, это было бы бесполезно, и еще бесполезнее было бы просить его позволить мне выпутаться из моих затруднений, открыв Луцилле истину.
— Вы, конечно, лучший судья в этом деле, — отвечала я. — Но вы не знаете, чего стоят ваши предписания несчастным, которым приходится исполнять их.
Он резко прервал меня на этих словах.
— Вы сами увидите, — сказал он, — стоит ли исполнять их. Если ее глаза удовлетворят меня, Финч будет сегодня учиться видеть. Вы будете при этом присутствовать, упрямая вы женщина, и решите сами, хорошо ли прибавлять огорчение и страдание к тому, что должна будет вынести внезапно остановилась на третьем шаге, не пройдя и половины расстояния, отделявшего ее от меня.
— Я видела мадам Пратолунго здесь, — обратилась она жалобно к Гроссе, указывая на место, на котором остановилась. — Я вижу ее теперь и не знаю, где она. Она так близко, мне кажется, что касается моих глаз, а между тем (она сделала еще шаг и обняла руками пустое пространство) я никак не могу приблизиться к ней настолько, чтобы поймать ее. О, что это значит?
— Это значит — заплатите мне мои шесть пенсов, я выиграл пари.
Его смех обидел Луциллу. Она упрямо подняла голову, насупила брови и сказала:
— Погодите немного, вы не выиграете так легко, я еще дойду до нее.
И она немедленно подошла ко мне так же свободно, как я подошла бы к ней.
— Еще пари, — воскликнул Гроссе, стоя сзади нее и обращаясь ко мне. — Двадцать тысяч фунтов в этот раз против четырех пенсов. Она закрыла глаза, чтобы дойти до вас.
Он был прав. Луцилла закрыла глаза, чтобы дойти до меня. С закрытыми глазами она могла рассчитывать расстояние безошибочно, с открытыми — не имела о нем никакого понятия. Уличенная нами, она села, бедная, и вздохнула с отчаянием.
— Стоило ли для этого подвергаться операции? — сказала она мне.
Гроссе перешел на нашу сторону комнаты.
— Все в свое время, — утешил он. — Потерпите, и ваши неопытные глаза научатся. So! Я начну учить их сейчас. Вы составили себе какое-нибудь понятие о разных цветах? Когда вы были слепы, думали вы, какой цвет был вашим любимым цветом, если б вы видели? Думали? Какой же? Скажите мне.
— Во-первых, белый, — отвечала она. — Потом пунцовый.
Гроссе подумал.
— Белый, это я понимаю, — сказал он. — Белый — любимый цвет молодых девушек. Но почему пунцовый? Разве вы могли видеть пунцовое, когда были слепы?
— Почти, — отвечала она, — когда было достаточно светло, я чувствовала что-то пред глазами, когда мне показывали пунцовое.
— При катарактах они всегда видят пунцовое, — пробормотал Гроссе. — Для этого должна быть какая-нибудь причина, и я должен найти ее.
Он опять обратился к Луцилле.
— А цвет, который вам противнее всех, какой?
— Черный.
Гроссе одобрительно кивнул головой.
— Так я и думал, — сказал он. — Они все терпеть не могут черное. Для этого должна быть также какая-нибудь причина, и я должен найти ее.
Высказав это намерение, он подошел к письменному столу и взял лист почтовой бумаги и круглую перочистку из пунцового сукна. Затем он оглядел комнату и взял черную шляпу, в которой приехал из Лондона. Все три вещи Гроссе положил в ряд перед Луциллой. Прежде чем он успел задать ей вопрос, она указала на шляпу с жестом отвращения.
— Возьмите это, — попросила она. — Я этого не люблю.
Гроссе остановил меня, прежде чем я успела сказать что-нибудь.
— Подождите немного, — шепнул он мне на ухо. — Это вовсе не так удивительно, как вам кажется. Прозревшие люди всегда ненавидят первое время все темное.
Он обратился к Луцилле.
— Укажите мне, — сказал он, — ваш любимый цвет между этими вещами.
Она пропустила шляпу с презрением, взглянула на перочистку и отвернулась, взглянула на лист бумаги и отвернулась, задумалась и закрыла глаза.
— Нет! — воскликнул Гроссе. — Я этого не позволю. Как вы смеете ослеплять себя в моем присутствии? Как! Я возвратил вам зрение, а вы закрываете глаза. Откройте их, или я вас поставлю в угол, как непослушного ребенка. Ваш любимый цвет? Говорите!
Она открыла глаза (весьма неохотно) и взглянула опять на перочистку и на бумагу.
— Я не вижу здесь ничего столь яркого, как мои любимые цвета, — сказала она.
Гроссе поднял лист бумаги и задал безжалостный вопрос:
— Как! Разве белое белее этого?
— В пятьдесят тысяч раз белее!
— Gut! Так знайте же — этот лист бумаги белый. (Он вынул носовой платок из кармана ее передника.) Этот платок тоже белый. Белейшие из белых — оба! Первый урок, душа моя. Вот в моих руках ваш любимый цвет.
— Этот! — воскликнула Луцилла, глядя с неподдельным отчаянием на бумагу и платок, которые он положил на стол. Она поглядела на перочистку и на шляпу и подняла глаза на меня. Гроссе, готовившийся к новому опыту, предоставил мне отвечать. Результат в обоих случаях был тот же самый, как с бумагой и с платком. Пунцовое было вполовину не так ярко, черное было во сто раз не так черно, как она воображала, когда была слепа. Что касается последнего цвета, черного, она была довольна. Он произвел на нее неприятное впечатление (как и лицо бедного Оскара), хотя она не знала, что это ее нелюбимый цвет. Луцилла сделала попытку, бедное дитя, похвастаться пред своим безжалостным доктором-учителем.