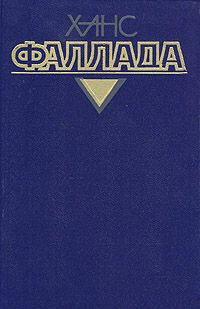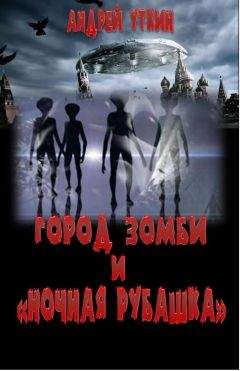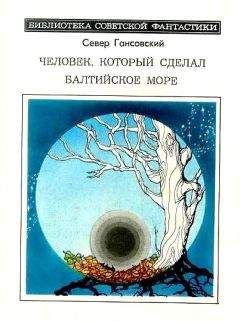Он в этом учреждении один из шести миллионов, он идет вдоль ряда окошек — к чему волноваться? Десяткам тысяч приходится еще хуже, у десятков тысяч нет таких дельных жен, у десятков тысяч не один ребенок, а с полдюжины — проходи дальше, Пиннеберг, получай деньги и катись, некогда нам с тобой разговаривать, подумаешь, какой особенный, цацкайся тут с ним.
И Пиннеберг идет дальше вдоль ряда окошек, выходит на улицу и направляется к Путбрезе. Путбрезе у себя на складе, сколачивает оконную раму.
— Добрый день, хозяин, — говорит Пиннеберг и хочет быть вежливым с врагом. — Вы, что же, теперь еще и плотником заделались?
— Я, молодой человек, на все руки, — отвечает Путбрезе, щуря свои маленькие глазки. — Я не то что иные прочие.
— Ну, это само собой, — соглашается Пиннеберг.
— Как сын? — спрашивает Путбрезе. — Выйдет из него что-нибудь?
— Еще ничего нельзя сказать наверное, — отвечает Пиннеберг. — Вот деньги.
— Шесть марок, — подтверждает Путбрезе. — Остается еще сорок две. А супруга как поживает, хорошо?
— Хорошо, — подтверждает Пиннеберг.
— Вы так это говорите, словно страшно гордитесь этим. Только гордиться-то вам нечем, вашей заслуги тут нет.
— Ничем я не горжусь, — миролюбиво говорит Пиннеберг. — Почта не приходила?
— Почта! — фыркает Путбрезе. — Это для вас-то — почта? А приглашение на работу не хотите?.. Был тут один какой-то.
— Мужчина?
— Так точно, мужчина, молодой человек. Во всяком случае, я принял его за мужчину… В городе спокойно?
— Что значит: в городе спокойно?
— Полиция опять цапается с коммунистами. А то с наци. Они тут витрины побили. Не видали?
— Нет, — отвечает Пиннеберг. — Не видал. А чего хотел тот человек?
— Понятия не имею… Вы не коммунист?
— Я? Нет.
— Странно. Я бы на вашем месте был коммунистом.
— А вы коммунист, хозяин?
— Я? Черта с два! Я ремесленник, откуда мне быть коммунистом?
— Ах так… Так чего же хотел тот человек?
— Какой человек? Ну что вы ко мне привязались? Трепался с полчаса. Я дал ему ваш адрес.
— Загородный?
— Ну да, загородный, какой же еще? Городской он и так знал, раз явился сюда.
— Но ведь мы же условились…— внушительно начинает Пиннеберг.
— Все в порядке, молодой человек. Жена возражать не станет. У вас там в доме нет стремянки? А то бы я выбрался разок подсобить. У вашей супруги есть за что подержаться…
— А пошли вы…— Пиннеберга душит ярость. — Скажете вы мне наконец, чего хотел тот человек?
— Да снимите вы воротничок, — издевается Путбрезе. — Ведь он у вас грязный-прегрязный. Уж больше года как в безработных, а все еще носит эту гипсовую повязку. Вот уж действительно пьяный проспится, дурак никогда.
— Пошли вы в…— кричит Пиннеберг и захлопывает за собой дверь.
— Пожалуйте ко мне, молодой человек, дербалызнем по маленькой! — говорит Путбрезе, высовывая в дверь свою багровую рожу. — Глядя на вас, я и больше выпью!
Пиннеберг медленно идет по улице, и его душит ярость — он опять позволил Путбрезе поиздеваться над собой. И так каждый раз: он всегда дает себе слово, что поболтает немного с Путбрезе и уйдет, и всегда кончается одним и тем же. Пентюх несчастный, ничему-то он не научится, каждый делает с ним, что хочет…
Пиннеберг останавливается перед витриной галантерейного магазина, в ней большое красивое зеркало, Пиннеберг видит себя во весь рост. Да, что и говорить, вид у него неважнецкий. Светло-серые брюки пестрят темными пятнами — следы просмолки крыши, пальто потерлось и выгорело, ботинки — заплата на заплате; Путбрезе, в сущности, прав — воротничок тут ни к чему. Опустившийся безработный — это каждому за сто шагов видно. Пиннеберг отстегивает воротничок, снимает галстук и сует их в карман пальто. Но и теперь вид у него ненамного лучше, намного его уже ничем не испортить; Гейльбут промолчит, но Гейльбут удивится.
Ага, вот едут полицейские машины. Значит, опять была стычка с коммунистами — смелые, видно, ребята. Хорошо бы опять почитать газету, а то живешь и не знаешь, что творится на белом свете. Может статься, в Германии уже полный порядок, и только он ничего не замечает, сидя там у себя за городом.
Э, нет, кто-кто, а уж он бы заметил, если бы все пришло в порядок; пока что по бирже труда не видать, чтобы число ее подопечных сократилось.
Так можно думать и думать без конца, приятного тут мало, веселее от этого не становится, но чем еще заняться в городе, которому до тебя дела нет? Сиди и не рыпайся, хватит с тебя твоих забот. Магазины, где не можешь ничего купить, кино, куда не можешь пойти, кафе для тех, у кого есть деньги, музеи для тех, кто прилично одет, квартиры для всех, только не для тебя, власти — чтобы над тобой измываться, — нет уж, лучше не рыпаться. Но он все же радуется, вступив на знакомую лестницу, ведущую в контору и квартиру Гейльбута. Ведь сейчас почти шесть, Овечка, наверное, уже дома, и с Малышом, наверное, ничего не случилось…
Он нажимает кнопку звонка.
Ему открывает девушка, очень хорошенькая, молоденькая девушка в чесучовой блузке. Месяц назад ее здесь не было.
— Что вам угодно?
— Я хотел бы видеть господина Гейльбута. Моя фамилия Пиннеберг. — И, так как молоденькая девушка медлит, очень сердито: — Я друг господина Гейльбута.
— Пожалуйста, — произносит наконец молоденькая девушка и впускает его в переднюю. — Вы не подождете минутку?
Он подождет минутку, и девушка исчезает за белой лакированной дверью с надписью: «Контора».
Весьма приличная передняя, думает Пиннеберг, обтянута красной тканью, фотографий и в помине нет, весьма приличные картины, гравюры на меди и на дереве. Можно ли подумать, что всего полтора года назад они были сослуживцами и продавали костюмы у Манделя?
Но вот и Гейльбут.
— Добрый вечер, Пиннеберг, хорошо, что опять наведался… Мари, — обращается он к девушке, — подайте нам чай в кабинет!
Нет, они не пойдут в контору, оказывается, со времени его последнего посещения Гейльбут, помимо этой молоденькой девушки, обзавелся еще и кабинетом: книжные шкафы, персидские ковры, огромный письменный стол — точь-в-точь такой кабинет, о каком всю жизнь мечтал Пиннеберг и какого у него никогда не будет.
— Присаживайся, — говорит Гейльбут. — Вот сигареты. А, осматриваешься? Да, приобрел кое-какую мебелишку — хочешь не хочешь, а надо. Сам-то я не придаю этому никакого значения, помнишь, у Витт…
— Да, но красиво-то как! — восхищается Пиннеберг. — Замечательно. Столько книг…
— Ну, знаешь, что касается книг…— начинает Гейльбут, но передумывает. — А как вы там, за городом, — справляетесь?
— Очень даже справляемся. Мы очень довольны, Гейльбут жена тоже. Она нашла кое-какую работу — так, штопка, чинка белья. Теперь нам лучше стало…
— Так-так, — говорит Гейльбут. — Это хорошо… Поставьте сюда, Мари, я сделаю все сам… Нет, спасибо, больше ничего не надо… Угощайся, пожалуйста, Пиннеберг. Вот, пожалуйста, пирожные — эти, что ли, полагаются к чаю? Не знаю, понравятся ли тебе, я-то в этом ничего не смыслю. Для меня и это совершенно безразлично.
И вдруг:
— У вас там уже очень холодно?
— Нет, нет, — торопливо отвечает Пиннеберг. — Не очень. Печурка греет хорошо. Да и комнаты не бог весть какие большие, обычно у нас довольно тепло. Между прочим, вот деньги за аренду, Гейльбут.
— Ах да, верно, за аренду… Разве уже опять пора платить? Гейльбут берет бумажку и вертит ее в пальцах, но в карман не прячет.
— Ты ведь просмолил крышу, Пиннеберг?..
— Да, — отвечает тот. — Просмолил. Очень хорошо, что ты дал мне на это денег. Я как начал ее смолить, тогда только увидел, что она вся течет. Вот бы поливало нас теперь, в осеннюю непогоду!
— А теперь не течет?
— Слава богу, нет, Гейльбут. Я как следует просмолил.
— Я вот что хочу тебе сказать, Пиннеберг, — говорит Гейльбут, — я где-то читал… Вы топите целый день?
— Нет, — нерешительно отвечает Пиннеберг, не вполне понимая, куда клонит Гейльбут. — Мы топим немного с утра, и потом под вечер, чтобы ночью было тепло. Сейчас ведь еще не очень холодно.
— А ты знаешь, почем сейчас брикеты у вас за городом? — спрашивает Гейльбут.
— Точно не знаю, — отвечает Пиннеберг. — По недавнему постановлению должны были подешеветь. Марка шестьдесят? Марка пятьдесят пять? Нет, точно не знаю.
— Я как-то прочел в строительном журнале, — говорит Гейльбут и вертит в пальцах бумажку, — что в таких летних домиках от сырости легко заводится грибок. Я бы рекомендовал тебе топить поосновательнее.
— Хорошо, — говорит Пиннеберг. — Мы можем и…
— Вот об этом я и хотел тебя попросить, — говорит Гейльбут. — Все-таки жалко, если дом пропадет. Будь любезен, топи целый день, чтобы стены просыхали как следует. Для начала вот тебе десять марок. А в подтверждение первого числа следующего месяца можешь принести мне счет на уголь…