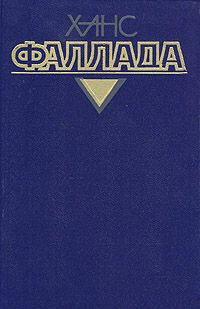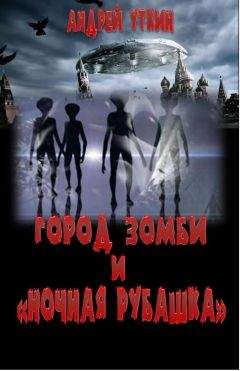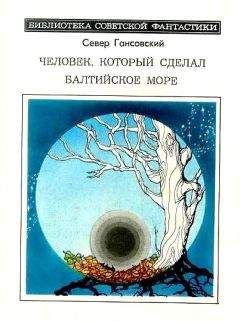Все с любопытством смотрят на Пиннеберга. Тем временем у витрины остановились еще несколько человек — вокруг них форменным образом начинает собираться толпа. Люди глядят выжидательно, не принимая ни ту, ни другую сторону; вчера здесь, на Фридрихштрассе и на Лейпцигерштрассе, били витрины.
У полицейского темные брови, светлый прямой взгляд, энергичный нос, румяные щеки и черные усики над верхней губой…
— Уйдете вы или нет? — спокойно спрашивает полицейский.
Пиннеберг хочет что-то сказать, Пиннеберг смотрит на полицейского, губы у него трясутся. Пиннеберг смотрит на людей. Они стоят во всю ширину тротуара, вплоть до самой витрины — прилично одетые люди, порядочные люди, зарабатывающие люди.
А в зеркальном стекле витрины отражается еще один человек — бледный, как привидение, без воротничка, в потертом пальто, в перепачканных варом брюках.
И вдруг Пиннеберг понимает все, перед лицом этого полицейского, этих порядочных людей, перед этой блестящей витриной он понимает, что выброшен из жизни, что ему здесь больше не место, что его гонят по праву: поскользнулся, опустился, пропал. Чистота и порядок: в прошлом. Работа и обеспеченный кусок хлеба: в прошлом. Продвижение по службе и надежды: в прошлом. Бедность — это не только несчастье, бедность наказуема, бедность позорна, бедность подозрительна.
— Может, ждешь, чтоб я тебе помог? — спрашивает полицейский.
Пиннеберг подчиняется, голова у него как в тумане, он хочет побыстрее пройти по тротуару дальше, к вокзалу Фридрихштрассе, — он хочет поспеть на поезд, он хочет к Овечке…
Полицейский толкает Пиннеберга в плечо, толкает не так уж сильно, но, во всяком случае, достаточно сильно, чтобы он очутился на мостовой.
— А ну, проваливай, — говорит полицейский, — да поживее!
И Пиннеберг уходит; он семенит по мостовой вдоль тротуара, он думает об очень многом: пустить бы им красного петуха, угостить бы их бомбой, уложить бы их всех на месте… Он думает, что вот теперь-то уж и вправду все кончено, и с Овечкой, и с Малышом… но, в сущности говоря, он не думает ни о чем.
Пиннеберг доходит до угла Егерштрассе и Фридрихштрассе. Он хочет перейти через перекресток — и на вокзал, домой, к Овечке, к Малышу, для них-то он все-таки существует…
Но полицейский опять толкает его:
— Туда, туда проходи!
И показывает в сторону Егерштрассе.
Пиннеберг снова хочет взбунтоваться: ведь ему надо на поезд.
— Мне надо туда…— говорит он.
— А я говорю — туда, — повторяет полицейский и толкает его в сторону Егерштрассе. — Ну, ну, не задерживайся! — и дает ему здорового леща.
Пиннеберг пускается бежать, он бежит со всех ног, он чувствует, что за ним больше не гонятся, но не смеет оглянуться назад. Он бежит все дальше по мостовой, никуда не сворачивая, прямо во мрак, в темноту, но полной темноты нигде нет.
Много, очень много времени прошло, прежде чем он замедлил шаг. Он остановился, он огляделся. Пусто. Никого. Полиции нет. Осторожно ставит он одну ногу на тротуар. Потом другую. И вот он уже не на мостовой, он опять на тротуаре.
Медленно, шаг за шагом, Пиннеберг идет по Берлину. Но полной темноты нигде нет, и очень трудно проходить мимо полицейских.
ГОСТЬ НА ТАКСИ. ДВОЕ ЖДУТ НОЧЬЮ. ОБ ОВЕЧКЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ.
На улице 87а перед участком 375 стоит машина — берлинское такси. Шофер уже много часов подряд сидит в домике у Пиннебергов, на кухне — он всю ее заполнил собой.
Он выпил целый кофейник кофе, потом выкурил сигару, потом погулял немного в саду — но в темноте ничего не было видно. Тогда он вернулся в кухню, выпил еще один кофейник и выкурил еще одну сигару.
А те, в комнате, все говорят и говорят, особенно этот здоровенный блондин. При желании шофер мог бы подслушать, о чем разговор, но ему это совершенно неинтересно. Ведь в такси, в стеклянной переборке, отделяющей водителя от задних мест, почти всегда есть щелка, — за неделю наслушаешься столько интимностей, что хватит на всю жизнь.
Через некоторое время, на что-то решившись, шофер встает и стучится в дверь.
— Мы еще не скоро поедем?
— Мил человек! — говорит блондин. — Неужели вы не хотите заработать?
— Как не хотеть, — отвечает шофер. — Только вам это дорого обойдется — простой!
— Вот именно — мне, а не вам! — говорит здоровенный блондин. — Садитесь, на чем стоите, и вспоминайте уроки закона божьего: «Без воли божьей и волос с головы не упадет». То ли еще бывает.
— Ну раз так, — отвечает шофер, — тогда я сосну малость.
— Тоже неплохо, — говорит Яхман. И Овечка:
— Ума не приложу, куда девался Ганнес. Обычно он позже восьми не задерживается.
— Ничего, придет, — говорит Яхман. — Как дела у молодого папаши, молодая мамаша?
— Господи боже мой! — отвечает Овечка. — Ему нелегко. Шутка ли сказать, четырнадцать месяцев без работы…
— Это не навсегда, — говорит Яхман. — Теперь я снова в здешних палестинах, что-нибудь да найдется.
— Вы были в отъезде, господин Яхман? — спрашивает Овечка.
— Да, я немножко отсутствовал. — Яхман встает и подходит к кроватке Малыша. — Не пойму, как может отец задерживаться, когда дома его ждет такое сокровище!
— Господи боже мой, господин Яхман, — говорит Овечка. — Слов нет, Малыш у нас чудесный, но жить только для ребенка… Видите ли, днем я ухожу шить…
— Вы не должны этого делать! Больше этого не будет!
— …днем я ухожу шить, а на него остается дом, готовка, ребенок. Он не ропщет, он даже любит заниматься домашними делами, но разве это жизнь для него? Мужчины сидят дома и занимаются хозяйством, а женщины работают — скажите, Яхман, неужели так будет продолжаться вечно? Это же невозможно!
— Ну да! — говорит Яхман. — Почему невозможно? А как было во время войны? Женщины работали, мужчины убивали друг друга, и все считали, что так и быть должно. Такой порядок даже лучше.
— Не все считали, что так и быть должно.
— Не все, так почти все, голубушка. Таков человек: ничему-то он не научится и без конца повторяет одни и те же глупости. И я тоже. — Яхман делает паузу. — Дело в том, что я опять переезжаю к вашей свекрови.
— Конечно, господин Яхман, — нерешительно говорит Овечка. — Вам лучше знать. Быть может, это вовсе не глупо. В конце концов, она умная, с ней интересно.
— Разумеется, это глупо, — сердито говорит Яхман. — Страшно глупо! Вы ведь ничего не знаете, голубушка! Понятия не имеете! Ну да хватит об этом…
Он погружается в раздумье.
— Вам нет смысла ждать, господин Яхман, — после долгой паузы говорит Овечка. — Вот уж и десятичасовой поезд прошел. Я серьезно думаю, что Ганнес загулял. У него было слишком много денег.
— Как? Много денег? У вас все еще много денег?
— Смотря что называть деньгами, Яхман, — улыбается Овечка. — Двадцать марок, двадцать пять. Для него достаточно, чтобы разгуляться.
— Да, достаточно, — уныло отзывается Яхман. И опять продолжительное молчание. Наконец Яхман снова поднимает голову:
— Вы очень беспокоитесь, Овечка?
— Еще бы не беспокоиться. Да вы сами увидите, до чего они довели моего мужа за два года. А ведь он, что ни говори, порядочный человек…
— Конечно, порядочный.
— И он совсем не заслужил, чтобы так над ним измывались. Если он теперь еще запьет… Яхман раздумывает.
— Нет, — говорит он. — В Пиннеберге всегда было что-то свежее, чистое. А пьянство — это грязь и нечистоплотность, нет, он не запьет. Ну там, гульнуть разок — это другое дело, но чтобы запить по-настоящему — нет…
— Вот и десять тридцать прошел, — говорит Овечка. — Я начинаю бояться.
— Не бойтесь за него, — отвечает Яхман. — Пиннеберг пробьется.
— Через что пробьется? — зло спрашивает Овечка. — Через что? Все это пустое, что вы говорите, Яхман, все это только так, чтобы утешить. В том-то и беда, что он торчит тут за городом и у него ничего нет, за что можно было бы бороться. Ему остается только ждать — но чего? Чего ждать? Да ничего! Так просто… ждать.
Яхман долго глядит на нее. Он повернул к Овечке свою большую львиную голову и глядит ей прямо в лицо.
— Не думайте все время о поездах, Овечка, — говорит он. — Ваш муж вернется. Непременно вернется.
— Я не того боюсь, что он запьет, — говорит Овечка. — Это страшно, но это еще не самое страшное. Главное, он сейчас такой пришибленный, с ним может что-нибудь случиться. Сегодня он заходил к Путбрезе, тот мог ему нагрубить, а это его сейчас всего переворачивает. Он может не выдержать, Яхман, он может…
Она смотрит на него округлившимися, широко раскрытыми глазами, и вдруг ее глаза наполняются слезами; крупные светлые слезы катятся по щекам, и нежный волевой рот начинает дрожать, губы не слушаются ее.
— Яхман, — шепчет она. — Он может…
Яхман встал, он стоит совсем близко за ее спиной, он берет ее за плечи.