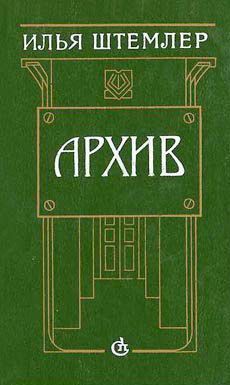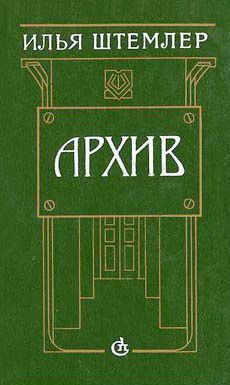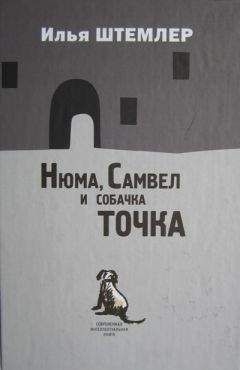— Сейчас Ксюша нас чем-то удивит, — проговорил Гальперин, по-своему истолковав движение сына. — Надо было тебе вчера появиться, такое она приготовила мясо с черносливом.
— Вчера я весь день провел в ОВИРе, — ответил Аркадий. — Там меня угощали и мясом, и черносливом.
— Не знаю, не сталкивался, — суховато произнес Гальперин, ему не хотелось вновь выслушивать сетования о работе наших официальных учреждений. И потом, Отдел виз и регистрации — учреждение особенное, ворота страны. У него своя специфика. Пока есть у государства границы, стало быть, и строгости должны быть особые. Эти соображения Гальперин изложил невнятно, прожевывая поднадоевший салат и с нетерпением поглядывая, куда же запропастилась Ксения…
Спорить с отцом Аркадию не хотелось. Разве может человек, не переступавший порог этого учреждения, испытать состояние такого унижения и бесправия? Сам он, Аркадий, никогда не думал, что в государстве, имеющем Конституцию, эти фарисеи могут с такой садистской изощренностью попирать свои же собственные инструкции и положения. Нет, они их не попирали, они доводили их исполнение до такого бюрократического виража, что законы теряли даже крупицу того, к чему они были призваны. Аркадий видел перед глазами лица людей, работающих в том учреждении. Нет, не лица, а маски, непроницаемые, бездушные, глядящие на тебя с единственной целью превратить человека в собственную тень. Даже их вежливость выглядела настолько издевательски стерильно, настолько бездушно, что ничего, кроме ненависти к себе, породить не могла. Ненависти и презрения к фарисеям, у которых элементарное проявление человеческого достоинства вызывает ужас, а еще печальнее — зависть.
— Чему ты возмущаешься. — Гальперин не скрывал раздражения. — В конце концов, куда ты собрался уезжать? В страну, которая находится в состоянии неявной войны с нами… Как же к тебе относиться? Угощать мясом с черносливом?
— Не совсем так, командор, — подчеркнуто спокойно отозвался Аркадий. — Если бы дело только в таких, как я… Они презирают всех и завидуют всем, кто отсюда уезжает. Я видел, как они обращаются с вполне лояльными гражданами. Одна женщина собралась к своему мужу-инженеру, который работает по контракту где-то в Мали, не то в Сомали… Довели женщину до сердечного приступа и бровью не повели, «скорую» вызывал женщине я… Они просто ненавидят всех, кто их оставляет здесь, понимаешь? Ни один враг не наносит такого ущерба стране в глазах всего мира, как эти чиновники. Они да таможенники, два сапога пара… А эти изуверские справки, этот ворох заявлений и бумаг, — Аркадий щелкнул пальцем по карману, куда упрятал заявление отца. — Представляю, с каким скрежетом тебе его выдали. Или просто? — В его глазах светилось знакомое с детства хитроватое любопытство.
— Просто, просто, — невнятно проговорил Гальперин. — Лучше расскажи — чего тебя вдруг уволили?
— Если быть точным — я уволился сам… Меня вызвал начальник отдела и сказал: «Ты свинья, Аркадий, разве так делают? Приличные люди вначале увольняются с работы, чтобы не подвести своих друзей, а ты? Не обижайся, приятель, пойми правильно. Ты ускачешь, а нам тут оставаться, со всеми этими ребятами из крепких организаций. Они ведь глотают не пережевывая. Увольняйся, а мы все необходимые бумаги чистыми тебе вслед пошлем, без единой морщинки. Характеристики и прочее!» Я подумал и уволился.
— Характеристики? — чего-то испугался Гальперин. — Интересно. А если характеристика плохая? Ведь не орденом награждают. Бред какой-то.
— Бред?! Смысл, командор, смысл… Говорят, человек может помереть от щекотки, если сильно щекотать. Так и здесь. Завалят такими нелепостями, что махнешь рукой и оставишь затею. По крайней мере, на это надеются… Самое совершенное достижение за шестьдесят пять лет власти — бюрократический централизм. Все обюрокрачено — снизу доверху… Я и уволился, командор. Не уволился — уволили бы.
Гальперин сидел тихо, не шевелясь. Лицо его было напряжено. Казалось, он видит нечто такое, что постороннему увидеть не дано. Может, ему представился маленький мальчик Аркаша, в бархатных штанишках, привезенных из поверженной Германии. Впервые сына он увидел, когда ему было почти пять лет. Гальперин объявил своей невестой Наденьку Кириллову, мать Аркаши, в августе сорок первого, за три дня до мобилизации, а свадьбу сыграл в декабре сорок пятого, после демобилизации. И каждый раз при крике «горько» он снимал Аркашу с колен и передавал соседям. Переждав, Аркаша проворно взбирался на свое место. Причины, по которым Гальперин разошелся с Надей, давно забылись, как и сам далекий образ покойной первой жены. Память сохранила только ее привычки. И то потому, что они передались Аркадию.
— Ну и отрезочек истории нам достался, — пробормотал Гальперин, глядя, как сын в задумчивости потирает мочку правого уха…
Ксения вернулась в комнату шумно, со сковородой в руках, над которой витал сизый пар. Терпкий запах жареного лука горчил ноздри, пробуждая аппетит.
— Что, Аркадий Ильич, есть вещи на свете куда заманчивей ваших хождений по инстанциям? — Ксения придвинула тарелку.
— Есть, Ксения Васильевна, — обрадовался Аркадий дружескому тону. — И превеликое множество.
Гальперина вновь чем-то кольнул этот недосказанный разговор. А старое зеркало цепко собрало на своем мутноватом поле туманные лики Аркадия и Ксении. Себя Гальперин уже не видел, он оказался где-то за рамой, на блеклых обоях.
— Слушай, босяк, — проговорил Гальперин нарочито развязным тоном. — Я вот думаю…
— А я думаю, отец, — перебил Аркадий. — Пора тебе оставить это определение. Я давно его перерос.
— Действительно, Илюша, — поддержала Ксения. — Тебе не подобает быть отцом босяка.
Гальперин растерялся. Он любил вставлять в разговор полузабытые портовые словечки, казалось, они придают особую доверительность…
— Ладно, ладно, — ухмыльнулся Гальперин, — Я ведь шучу… Есть идея, Аркадий…
Гальперин понимал, что надо умолкнуть, не продолжать. Но туман с поверхности старого зеркала точно застил сознание, он истязал себя и находил в этом сладость.
— Зачем же пропадать квартире? Прекрасная трехкомнатная квартира в центре города…
Аркадий смотрел на отца с недоумением.
— Передай ее Ксении…
Теперь и Ксения вскинула на Гальперина карие удивленные глаза.
— Да, да… Передай… Зарегистрируйся с ней, пропиши на своей площади, а потом разведись и уезжай…
Аркадий растерянно пожал плечами. Предложение отца ставило его в довольно трудное положение. Все задуманное отодвигалось на неопределенный срок, возникали ненужные сложности.
Ксения держала на весу сковородку, пытаясь поддеть ножом кусок мяса. Нож скользнул, разбрасывая золотистые струпья жареного лука.
— То есть, как зарегистрироваться со мной? — тихо спросила Ксения. — А… я?
— Что ты? — раздраженно и даже зло ответил Гальперин. — Ты будешь иметь квартиру.
— Вот как, — не изменила тона Ксения. — Но у меня уже есть квартира.
Гальперин вдохновенно отдавался своему наваждению, ему даже нравилось это состояние апатии и злого безразличия.
— Что значит «есть квартира»? — Живот мешал Гальперину придвинуться к столу, пересиливая себя, он потянулся вилкой к сковороде. — Сегодня есть, а завтра… вдруг я помру…
— Я вовсе не вас имею в виду, Илья Борисович. — Ксения отвела сковороду, и вилка Гальперина повисла в воздухе. — У меня есть квартира в Уфе. И другой мне не надо. — Она плюхнула сковородку о стол, куски мяса вывалились, один даже угодил на паркет. И следом, словно находясь в одном строю, на паркет от удара двери спальни свалился с потолка листик извести. В комнате стало тихо…
— Я пойду, командор. — Аркадий встал и направился в прихожую. Гальперин оставался сидеть. Он слышал, как в прихожей загремел засов. Он напрягся — засов мешал ему прислушиваться к звукам из спальни. Когда Аркадий ушел, Гальперин, тяжело опираясь на подлокотники, выкорчевал себя из кресла и, шаркая стоптанными сандалями, поплелся к спальне, подобно слепому волу неуклюже натыкаясь на какие-то предметы.
Ксения сидела боком на подоконнике и смотрела на улицу. Гальперин приблизился и осторожно коснулся ладонью тугого ее колена, обтянутого прохладным капроном.
— Извини… Я тебя ревную. — Гальперин старался собрать плывущий голос, но не справился и повторил: — Я ревную тебя к нему.
— Глупо, — переждав, ответила Ксения. — Единственно, что между нами общего, это возраст. Но это еще не повод для ревности. Глупость какая-то, глупость.
— Понимаю. Ничего не могу поделать, извини. Вы кажетесь мне созданными друг для друга, а тут… я.
Ксения молчала, глядя в окно. С высоты этажа люди в провале улицы словно принимали участие в странном соревновании, условие которого не так просто разгадать.