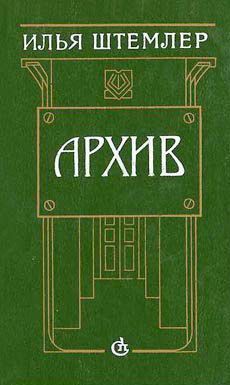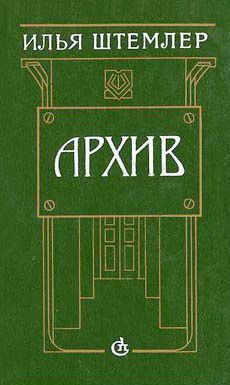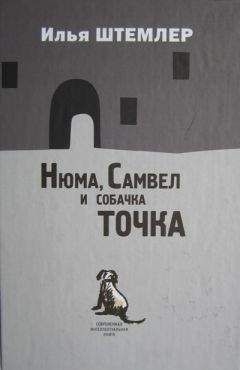— Ты просто желчный и злой, — проговорила Ксения. — Тебе мало того, что между нами все хорошо. Тебе, для остроты чувств, еще нужны огорчения. Потому что ты…
— Старый тюфяк, — закончил Гальперин.
— Вот именно, — не выдержала Ксения и виновато засмеялась, сбрасывая с колена тяжелую ладонь Гальперина.
Единственной причиной, что могла оправдать его выходку в гостиной, была только ревность. Только ее могла понять Ксения и простить.
— А ты решила, что я… и вправду озабочен квартирой? — мрачно проговорил Гальперин.
— Думала бы так, видел бы ты меня здесь, — ответила Ксения. — Аркадий ушел?
Гальперин кивнул. Он придвинул табурет и пристроился подле Ксении, положив подбородок на ее колени. Знакомое тепло будоражило его и в то же время успокаивало. Обретя физическую защищенность, он острее почувствовал горечь потери, что неминуемо последует после отъезда Аркадия. Впервые им овладела эта мысль тогда, на собрании. Поначалу собрание его забавляло, потом огорчило, и лишь после выходки Брусницына на него навалился страх. Он старался укротить страх, приводил разные доводы — «как, в наше время, после шестидесяти пяти лет советской власти?!» — доводы эти не допускали никаких средневековых извращений, но факты упрямо срезали эти доводы, обращали их в пустые слова и тлен. Все еще будет, потому как все уже было. И были тридцатые, и были сороковые, и были пятидесятые, да и в дальнейшем годы себе не очень менялись в своей сути…
Где-где, а в тихом архиве, как в стоячем болоте, рос не только тростник, но и мох с лишайником. Документы, что таились на полках спецхрана, были не слухи, а факты. Сколько судеб загнано в блеклые картонные папки. Где эти люди? Услышит ли кто о них? Или придет приказ все уничтожить, обратить в пыль?… Страх поселился в душе Гальперина, страх раздувался, мешал дыханию, сжимал больное сердце. А ведь он был не из трусливых. На фронте, перед атакой, взводный надеялся на Гальперина, и тот не подводил. Порукой тому самые дорогие ему ордена Славы. Почему же сейчас он отдал себя страху? Тогда враг был впереди, а сейчас за спиной, — испытание, которое выдерживают единицы. А ему за шестьдесят, у него больное сердце, он одинок. Ксения? Что Ксения? Она молода, ее увлечение лишь увлечение, оно пройдет, молодость свое возьмет, и никакие брачные узы их не удержат…
Гальперин не заметил, как начал произносить свои мысли вслух, невнятно, торопливо, уткнувшись в ее колени лицом, отчего низкий рокочущий тембр голоса смягчался, как сквозь подушку, прорываясь не воплем испуга, а задушевным бормотанием, от того еще более искренне и безнадежно.
— Неспроста председатель Комитета госбезопасности стал главой партии, неспроста, — шептал Гальперин. — Поверь мне. Все вернется. И сороковые, и тридцатые, и средневековые…
Гальперин умолк. Отдав слова, он обессилел, дыхание выровнялось. Казалось, он заснул. Нет, не заснул, он притих в ожидании. Теплые пальцы Ксении прошлись шажками по егошевелюре, спустились к затылку, забрались под ворот халата и, точно устав, успокоились.
— Когда мы познакомились, Илюша, стали близки… мне захотелось получше узнать твой народ. Кто ты, откуда? Столько я прослышала за свою жизнь о вас, разное — худое и доброе… Я полюбила тебя и хотела все-все знать о тебе… Ты меня слушаешь?
— Да, слушаю. — Гальперин приподнял голову и посмотрел на Ксению. Он видел ее подбородок и кончик носа, да еще прядь волос, обесцвеченных на фоне светлого потолка.
— Я стала читать. Оказалось, так много разных книг. Я ужаснулась истории твоего народа, Илюша. И возгордилась, представь себе, я — возгордилась за него. Только ты не смейся, Илюша. Но ты мне казался чем-то сродни Давиду, Моисею, Христу, Эйнштейну, клянусь тебе. Недаром Аркадий называет тебя командором. И я служила тебе, чем могла… Ты смеешься?
— Нет, не смеюсь, — печально ответил Гальперин. — Хорошая компания, чему смеяться?
— Ты был такой большой, сильный, умный… Хитрый, конечно, кто же не хитрый? И Моисей был хитер. Без хитрости разве он управился бы со своим народом, где каждый считает себя умнее бога. Сорок лет он блуждал по пустыне, чтобы вырвать из своего народа рабское сердце. Без хитрости тут не обойтись.
— И без ума тоже, — вставил Гальперин.
— Само собой… А сейчас, Илюша, послушав тебя, твои страхи, я представила героев Шолом-Алей-хема, этих маленьких несчастливых людей, боязливых, неуверенных. Но почему?! Почему они, а не…
— Давид с Моисеем? — усмехнулся Гальперин.
— Да! — горячо проговорила Ксения. — Да… Ведь одна кровь! Почему не те…
— Потому, что нас много били. Гораздо больше, чем других. История так распорядилась, что нас всегда было гораздо меньше, чем других. А тех, кого меньше, бить безопасней… И в памяти человечества произвели вивисекцию — отняли наших героев, оставили таких, как я. И сегодня проводят эту вивисекцию.
— А ты этому помогаешь. Ты! Своим трусливым поведением, — горячо подхватила Ксения. — Я презираю тебя, Илюша. Ты отнял у меня героя и подсунул раба… Иди звони своему сыну. Бери назад заявление. — Ксения резко торкнула коленями: — Ну!
Голова Гальперина подпрыгнула, словно муляж.
— Что ну?
— Иди звони. А то Аркадий распорядится этим заявлением, и ты останешься с носом. Страх тебя задушит. Иди, слышишь? — Изловчившись, Ксения поднялась с подоконника.
Телефонный аппарат жабой смотрел на Гальперина белыми круглыми глазами. И мерзко улыбался, словно подзуживал, словно испытывал его волю.
Да, я слабый человек, я боюсь, разговаривал Гальперин с аппаратом, но пользоваться этим нельзя-я-я… Это безнравственно, это бездушно. Нельзя свой максимализм реализовывать за счет дыхания отца, за счет его больного сердца. Ты сам станешь отцом и поймешь — судьба отца не иллюзорность, не абстракция, У него такая же кожа, как и у тебя, такие же глаза, такая же кровь, может быть, немного погуще да градусом пониже, но он твой отец, он дал тебе самое дорогое на земле — жизнь. Так поступать с отцом нельзя-я-я…
Телефонный аппарат терпеливо внимал, скорбно развесив свои наивные круглые уши и продолжая хитро улыбаться — ну-ну, попробуй, скажи!
И скажу, скажу ему все это, продолжал Гальперин, он поймет, он мой сын.
Гальперин снял трубку, и аппарат обрел какой-то сконфуженный вид, словно непристойно оголился.
Аркадий ответил сразу — знакомым и родным голосом.
— Это ты, командор? А я только собрался уходить.
— Куда? — Гальперин старался унять волнение. — В ОВИР?
— Угадал. Теперь им нечем крыть, — Аркадий засмеялся. У него было прекрасное настроение. Так, вероятно, чувствуют себя воины и спортсмены. Конечно, есть опасность быть убитым или проиграть, но он, сильный человек, об этом не думал. — Слушаю тебя, отец. Ты хочешь пойти со мной?
— Аркаша, — трудно, словно переступая через самого себя толстыми ногами, произнес Гальперин. — Послушай меня, Аркаша, — мысли Гальперина разбежались. Вспомнить бы только начало, первую фразу, а там все пойдет. Но память безмолвствовала, память уронила слова, и они валялись где-то там, куда не дотягивался короткий телефонный шнур.
— В чем дело, отец? — Аркадий перестал смеяться. — Ты что-то надумал? Не хочешь ли ты ехать со мной?
— Я не хочу, чтобы ты отнес это заявление. — Гальперин вслушивался в ожидании ответа, до боли прижимая трубку к уху. Трубка попискивала слабыми сигналами каких-то помех. — Я боюсь, Аркадий, мне страшно… Подожди какое-то время. Я уйду на пенсию. Или вообще… уйду. Ты и поедешь… У тебя впереди вся жизнь, Аркаша, а у меня… совсем немного, я чувствую. — голос Гальперина нарастал. Он уже не видел за трубкой сына. Он видел несправедливость, которая настигла его, и он защищался. — В конце концов, это нечестно. Ты пользуешься моим отношением к тебе, совсем забыв, что я живой человек. Я — боюсь, я физически боюсь. Я боюсь остаться без работы, боюсь быть ошельмованным. Я не вынесу еще одного испытания… А у тебя вся жизнь впереди…
Гальперин все повторял и повторял одни и те же слова, точно в исступлении. Наконец он умолк. Он ждал, когда Аркадий начнет его упрашивать, умолять. Он боялся этого. Боялся, что он размякнет, сдастся. Повесить трубку он не решался, нужна определенность. Ведь заявление Аркадий унес с собой, в боковом кармане…
— Алло! Ты слышишь меня, Аркадий?
__ Да. Я слышу тебя, — ответил Аркадий до удивления спокойно.
— Ну, так что?
— Я верну тебе твою бумагу… Я оставлю ее в твоем почтовом ящике.
— Почему? — Гальперин не испытывал удовлетворения. Наоборот, сердце, казалось, разорвется сейчас от горести. — Почему? Поднимись ко мне.
— Я не хочу тебя видеть… Извини…
Гальперин поначалу и не понял, что это сигнал отбоя. Он что-то говорил и говорил, а трубка отвечала мерными сигналами, через ровные паузы.