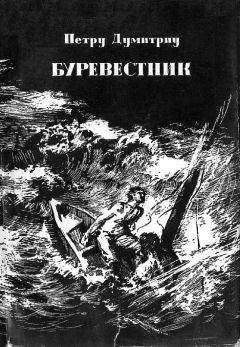Он взял ее за руку, потом вдруг остановился и, повернувшись к ней, спросил:
— Детей у тебя нет?
Слезы сразу высохли у Ульяны. Она утерла глаза и отрицательно покачала головой:
— Нету… Да, кажется, и не могу я рожать…
— Ну, идем, — ласково сказал Адам.
Но Ульяна настояла на том, чтобы зайти проститься к жене Емельяна. Низко поклонившись подруге, она поцеловала ее, поблагодарила за хлеб-соль и объявила, что бросает Симиона и выходит за Адама. Попрощавшись с хозяйкой, они пошли. Проходя мимо места, где когда-то стояла хата, в которой он вырос, Адам заметил, что ее стены совсем развалились: еще немного — и они сравняются с землей. Миновав памятное место, Адам оглянулся, потом решительно двинулся вперед.
Крестьяне на телегах, шоферы на грузовиках, турки на своих осликах, проезжавшие в тот день по шоссе, которое ведет из Даниловки в Констанцу, то приближаясь к берегу моря, то отходя от него, могли видеть двух путников, ни на кого не обращавших внимания и имевших такой вид, будто на свете никого, кроме них, не существует. Это были высокий, плечистый мужчина со строгим лицом и стройная женщина с замечательно ясными, светлыми и чистыми глазами. Они были чем-то похожи друг на друга, так что их легко можно было принять за брата и сестру. Но их об этом никто не спрашивал: телеги, стуча, проходили дальше; гудя и поднимая облака пыли, проносились и быстро исчезали за горизонтом грузовики; турки, не поворачивая головы, проезжали мимо на своих осликах.
А Адам с Ульяной все шли и шли, крепко держась за руку. Справа от них было море, слева — желтые, как мех степного суслика, пологие холмы. Ветер крутил вокруг них подорожную пыль, море торжественно гудело в ушах, солнце грело и ласкало их золотыми лучами заката. А они все шли. Настал тихий вечер, на степь опустился лиловый сумрак, море оделось во все оттенки пурпура, в небе долго, неподвижным пламенем, догорала вечерняя заря. Шелестели высохшие травы, завели свою музыку кузнечики, будто кто-то тер друг о друга сухие костяшки и в то же время щипал струну из тонкой серебряной проволоки. Стемнело, а они все еще шагали по мягкой пыли шоссе. Над ними, в ночном небе, огромными бриллиантовыми диадемами загорелись созвездия. Ночь выдалась светлая и теплая, мягкий морской воздух был напоен чистыми, дикими ароматами полыни, мяты, пахнувшей лимоном мелиссы.
Адам решил не прикасаться к Ульяне, пока они не станут мужем и женой. Но он явно переоценивал свои силы и теперь сам не знал, что будет делать в следующую минуту. Не выпуская ее руки, он осторожно увлек ее за собою в степь. Под их ногами сухие травы запахли еще сильней. Они подошли к подножию большого кургана, спугнув что-то испуганно зашелестевшее при их приближении — не то перепелку, не то полевую мышь. Адам уложил Ульяну на еще теплую после дневного зноя землю, лег рядом с ней и обнял ее.
Кругом на все лады стрекотали сотни тысяч кузнечиков, и казалось, что это пела сама нагретая солнцем земля. Их песня, то нарастала, то затихала, как дыхание этой волшебной ночи. Показавшись из-за кургана, над пустынной степью взошла луна, сначала красная от стоявшей над Добруджей пыли, потом желтая, как сотовый мед. В залитой ее светом степи стало видно каждую былинку. Темно было лишь по ту сторону кургана, там, где лежа в густой тени, на теплой, пахнущей полынью земле, тихо стонала и охала Ульяна. Но стонала она и охала не от боли…
По ту сторону шоссе все так же ревело море.
Было уже совсем поздно, когда Адам, откинув ей голову, стал гладить Ульяну по лицу. Ее кожа под его жесткими, огрубевшими пальцами казалась ему нежной, как щека ребенка. Но у него все еще оставалось чувство неудовлетворенности, словно ему все еще чего-то не хватало. Он снова обнял Ульяну, снова больно, чуть не до крови, прижал ее губы своими и зашептал, задыхаясь от страсти:
— Что мне с тобой делать! Так бы и зацеловал!
Он с такой силой прижал ее к себе, что она вскрикнула от боли. Но ему и этого было мало: он не знал еще, что даже самое острое наслаждение не могло дать ему полного удовлетворения, совершенно так же, как морская вода не может утолить жажды.
Спиру Василиу вот уже две ночи, как не смыкал глаз. Заснуть не было никакой возможности. Стоило ему лечь, как что-то сейчас же заставляло его вскакивать и, сидя в кровати, он с величайшим напряжением ждал, чтобы остановившееся, как ему казалось, время сдвинулось с мертвой точки. Но время, как нарочно, остановилось. Ничего не происходило. Стоявший у его изголовья жестяной будильник двигался, по его мнению, с черепашьей медлительностью и звонил слишком редко. С улицы — Спиру жил в ближайшем соседстве с портом — доносился не прекращавшийся грохот лебедок, лязг металла и, иногда, продолжительный рев сирены. Скоро, скоро он услышит эти звуки в другом, заграничном, далеком отсюда порту. Вначале, конечно, придется довольствоваться, как здесь, скромной комнатой, но в этой комнате начнется для него новая жизнь, которая утолит его жажду богатства, власти и удовольствий, сделает участником выгоднейших комбинаций, так что у него будет все больше денег, все больше женщин. В будущем он, разумеется, не удовольствуется Анджеликой. Но на первых порах — в Истамбуле или Измире — будет очень приятно иметь ее в своем распоряжении. В их комнате будет пахнуть так же, как теперь в ее спальне.
Спиру сидел, уставившись на некрашенный пол, волнуясь и сгорая от нетерпения, в ожидании близкого счастья. На полу солнце нарисовало яркий прямоугольник. Глядя на него, Спиру заметил, что по мере того, как день клонился к вечеру, прямоугольник перемещался все дальше влево, потом удлинился и стал оранжевым. Наконец вся комната озарилась багровым заревом заката.
Настала третья ночь. Спиру уже несколько раз зажигал спички и смотрел на будильник; проверить — двигаются ли стрелки. Но всякий раз, поднося его к уху, убеждался, что часы тикают. Он старательно заводил будильник до отказа, боясь, что механизм вдруг остановится и он опоздает на свидание. Идти заранее было нельзя; это могло привлечь внимание и тогда малейшая неосторожность могла погубить все. Нет! Он будет в назначенном месте ровно в одиннадцать. Свет включать не следовало, чтобы не зашел кто-нибудь из знакомых, решив, что он дома и не спит… В темноте мерно и редко тикал будильник.
Чтобы как-нибудь не задержаться, Спиру заранее оделся и обулся и стал ждать условленного часа, ощущая внутри себя холодную пустоту.
Он долго сидел в полном оцепенении, потеряв счет времени, потом вздрогнул, охваченный ужасом — неужто опоздал? — и с отчаянно бьющимся сердцем чиркнул спичкой. Спичка сломалась в его дрожащих пальцах и упала на пол. Спиру потушил ее ногой и зажег другую, но и эта сломалась. При свете третьей спички он, наконец, увидал циферблат; часы показывали без десяти одиннадцать. Спиру, как сумасшедший, бросился на улицу, захлопнув за собой дверь и не заметив от волнения, что она осталась незапертой. Он опустил голову, засунул руки в карманы и заторопился в порт. Существовала, конечно, опасность встретить кого-нибудь из знакомых, но нельзя было терять ни минуты. Тяжело дыша, словно ему не хватало воздуха, Спиру почти бежал по улице, в конце которой виднелось блестевшее в лунном свете море. Улица была совершенно безлюдной. Он быстро спустился в порт. При нем, как всегда, был пропуск. Его сейчас же пропустили. Ему захотелось спросить у милиционеров, проходили ли здесь Зарифу с Анджеликой, но потом самому стало смешно, что ему в голову могла придти такая нелепость, такая безумная неосторожность. Воздержавшись от всяких вопросов, он быстро пошел вперед, минуя вереницы грузовиков, только что выгруженных с польского парохода, сновавших повсюду грузчиков и тягачи, тащившие платформы с грузом. В ослепительном свете прожекторов два парохода — один советский и один шведский — разгружались и одновременно грузились. Видно было, как их матросы, куря и облокотившись на планшир верхней палубы, смотрели вниз, на пристань, где с ружьями на плече расхаживали часовые-пограничники. Никто из них не обратил внимания на пробиравшегося между грузчиками и портовыми рабочими Василиу. «Скоро, скоро, — думал Спиру, — я буду далеко в море, а завтра вечером, в это время, пожалуй, уже в Турции. Посмотрим, однако, что произойдет теперь…»
Было условлено, что Прикоп, уже припрятавший кое-какое оружие на пароходе, должен был ждать Спиру на куттере с двумя пистолетами, привязанными к голеням, под широкими матросскими брюками. «Анджелика и Зарифу, может быть, уже на «Октябрьской звезде», — мелькнуло в голове у Спиру. У них были фальшивые документы на имя оставшихся на берегу механика и работницы консервного завода.
Он ускорил шаг, едва удерживаясь, чтобы не бежать. Идти приходилось позади зернохранилищ. Из их открытых ворот, куда уходили, теряясь в темноте, рельсы подъездных путей, несло спертым, застоявшимся воздухом, пахнувшим старой пшеницей и мышами. Обогнув здание, в котором помещались конторы какого-то управления, Спиру оказался на пристани рыболовной флотилии. Налево, у стенки, стояли спасательные шлюпки, предназначенные на слом моторные лодки, бывшая королевская яхта, купленная лет пятьдесят тому назад у богатой американки-старухи Ванделер. Пустая и покинутая, яхта дремала теперь у причала, обрастая морской травой под ватерлинией. Далее виднелся высокий, как замок, корпус строившегося грузового парохода. Сквозь широкие отверстия в борту, где еще не было обшивки, виднелись квадраты звездного неба. Вскоре через эти отверстия будут, уже в собранном виде, установлены последние части машинного отделения. «Вот бы мне такое судно», — завистливо думал Спиру, сравнивая строящегося великана с ветхой, мелкого тоннажа «Октябрьской звездой», бывшей «Теодорой», бывшей «Пунта Дельгада», бывшей «Стёртебекер», спущенной с одной из верфей Балтийского побережья в 1902 году. Да и скорость у нее была чуть не вдвое меньше. «Впрочем, не беда. Главное то, что она будет моей, в моем полном распоряжении», — утешал себя Спиру, торопливо шагая по пристани. Мысль его работала необычайно четко, как бывает во сне или после кокаина.