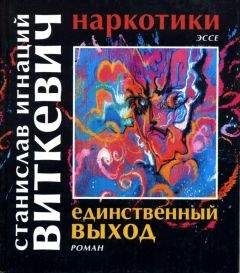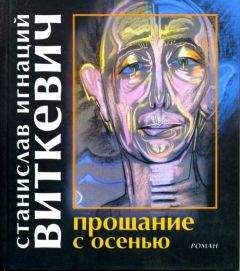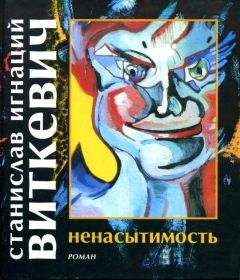Ужасное презрение к искусству сотрясло Марцелия до самых основ его существа. Тем временем через открытые двери двух комнат в глубине коридора, освещенного розовыми лампочками, показались три господина: Надразил Живелович вел своих гостей.
Когда-нибудь потом узнаешь, киска,
Что этот мир коварен и жесток,
Что в вихре страсти очень много риска
И вянет поцелуев лепесток.
Узнаешь ты тоску, печаль, отчаянье,
Поймешь, что ждет тебя в конце концов.
Короче будут встречи и случайнее,
Все холодней объятия самцов... —
завыл Марцелий утреннюю песню Изидора à la Хемар с музыкой Петербургского и продолжил рисовать дальше. Те, из глубины, приближались медленно — Суффретка впитывала каждое движение кисти, потому что весь этот процесс шел через нее, через эту бессознательную непросвещенную скотинку. Проплывали века, века, века... секунды, точкомиги.
Гости приближались. Кокаин спрессовал годы в минуты. Как перейти к реальности? А, собственно говоря, зачем, если разница лишь в том, что теперешнее состояние надо только перетерпеть. Презрение к искусству: он, Марцелий, имел на то право, ибо прекрасно понимал, что такое искусство, умел создавать его, ясно, как на ладони, видел его конец и себя как последнее звено в цепи, тянущейся за возом, на котором ехала вся эта сволочь выродившихся ящеров с приспособленными к окружающей их среде телами (но зато с буйно разросшейся и высокодифференцированной мозговой корой), то есть человечество. Эта цепь была уже мертва, вернее — мертвела прямо на их глазах. Он, Марцелий, не мог иначе прожить свою жизнь — он был не «мнимым художником», как 89% польских художников в XX веке, а настоящим, а это значит, что метафизический трепет и беспокойство он выражал непосредственно в чисто формальных конструкциях, так же непосредственно воздействующих через их формы и вызывающих в зрителях то же состояние, что и у него в момент их возникновения. Все ведь так просто, а никто понять этого не может. Чрезвычайно редкий случай в наше страшное, но в своем роде прекрасное время.
Из коридора несло ужасным скандалом, как мокрой сиренью в майский вечер после дождя.
Первым вошел пианист Ромек Темпняк — король третьесортных снобов, оставшихся после практически полного уничтожения польской аристократии во время борьбы ПЗПэпа с синдикалистами сорелевского типа, — вошел и остолбенел.
От полотна веяло неподвижным, застывшим метафизическим безумием. Марцелий взглянул на Ромека остатком синих глаз — остатком, ибо тонкую полоску васильковой радужки постепенно съедал ужасно расширявшийся после принятия пяти граммов коко зрачок. На полотне, покрывшемся коркой какого-то дьявольского кожуха, ревел безумием хаос рвущихся в бесконечность форм. Маркиз, не здороваясь (он вообще никогда не здоровался за руку с художниками, боксеров целовал в губы, а жокеев — как раз в руку), вставил монокль, оправленный в лонную кость самки морского гиппокентавра обыкновенного, в (свою) левую глазницу непомерно старого земноводного. Марцелий (также бесконечно добродушный под кокаином) без напряжения сдержался, чтобы не дать ему в морду.
Никто не поздоровался с Суффреткой, даже Надразил, ее бывший любовник; должно быть, Ромчо предупредил, что в том нет нужды. Что поделаешь! Даже в эту эпоху встречались плохо воспитанные польские аристократы. За границей такого уже давно не было. Марцелию тот стиль не нравился очень, но под кокаином он был не в силах обращать внимание на подобные мелочи, хотя потом, в состоянии Katzenjammer[204]’а (мое слово «глятва» никак не хочет укорениться, несмотря на его совершенство, как, впрочем, и многие другие мои находки[205] — потому я иногда пользуюсь противным мне немецким, дабы меня не заподозрили в злосчастно изобретенном Ижиковским «непонимальстве») он вдвойне, а то и втройне — как вспомнится друзьям — оплачивал все счета. И теперь, в ближайшем будущем, предстояло то же самое, по крайней мере теоретически.
Господа расположились в плетеных креслах — других в мастерской не оказалось. Суффретка подала whisky and soda — никто не благодарил, все пили, Марцелий продолжал рисовать. Краски прыскали из- под кистей — он впал в неистовство. Именно такие, а не какие-то другие цвета — неотвратимые в большей степени, нежели самые яростные, не подлежащие ни малейшему сомнению законы физики — текли плотной густой блевотиной через его замученную башку прямо на полотно, на котором какая-то, находящаяся в этой самой замученной башке невидимая матка формировала из них застывшее извержение метафизического (здесь — в шопенгауэровско-ницшеанском значении) вулкана, то есть в той мере, в какой мы признаем искусство в качестве «метафизической функции», чего-то такого, что выходит за рамки воздействия наркотика в обычном понимании или вообще каких-то приносящих удовольствие ценностей. Разве что мы признаем, что этот наркотик вызывает состояние м е т а ф и з и ч е с к о г о, а не какого-то там житейского у п о е н и я. Определенно, что-то такое, несмотря ни на что, в искусстве есть, хоть и нельзя создать абсолютно достоверной теории его основ. Искусство является непосредственным выражением существеннейшей из особенностей бытия: единства в многообразии. В искусстве это единство является нам в чистом виде, то ли в пространственном, то ли во временном многообразии, то ли в целом, сочлененном из элементов, как простых, так и сложных — это безразлично. Искусства поделили между собой несущественные, но обязательные элементы: жизненные чувства, внешний мир, понятийное содержание как таковое и т. п. — соединяет же их то общее метафизическое содержание, которое выражается в непосредственно воздействующей чистой конструкции, т. е. в Чистой Форме.
Так думал Изидор, оперируя относительно точными понятиями, так чувствовал Марцелий, когда творил свою ужасную «мазню», так же думал и Ромек Темпняк, но только в сфере музыки, отрицая значимость теории Чистой Формы в поэзии, живописи и скульптуре, и даже, вопреки распространенным предрассудкам, — в архитектуре.
Завязалась дискуссия, в начале которой Марцелий продолжал писать картину, просто-таки раздираемый от невозможности насытиться формой и принимая участие в разговоре на правах крохотного побочного интеллектуального новообразования, причем беседа не оказывала ни малейшего влияния на его работу. По крайней мере в этом он был похож на Наполеона Первого. Темпняк, не переносивший его интеллектуального над собой превосходства, тиранил его тем, что отказывал его работе в праве считаться Чистым Искусством, сохраняя это право исключительно за музыкой, и то не всякой. Маркиз оказался сторонником Марцелия. Надразил занял позицию арбитра, по всем вопросам хранил молчание — если бы он захотел, он точно такую же картину написал бы, и такой же роман, да и вообще все мог бы сделать, только не хотел — «а на кой?» — как он обычно говорил. Так же думали о нем и все женщины, которых он когда-либо любил. Он еще проявит себя — будьте спокойны... Эта дискуссия должна быть приведена почти in extenso[206] — поскольку в ней заключалось (как стало ясно потом) ядро, взорвавшееся всеми последующими событиями.
В Марцелий перешептывались грозные силы, символы вечных приливов и отливов человечества (этой банды мерзавцев: было ли где у животных наказание смертью, лишением свободы и пыткой; разве что по необходимости, ради каких-то непосредственных целей и самую малость, но только не в той гадкой форме, как у нас). Чудовищно дорого — еще раз специально повторяю — заплатили мы за этот тоненький слой мозговой коры («the little slice of brain-rind», как говорил Маске-Тауэр), с помощью которого мы так явственно видим метафизическое убожество, свое и чье угодно, на фоне великолепного ящерного рыцарского бессознательного прошлого.
Снуя между трех знаменитостей с какими-то замызганными сиротскими тартинками, Суффретка создавала видимость приема. Зная о ее внутреннем духовном аристократизме и видя ее изысканные манеры, можно было расплакаться от того, что ей, «бедняжке», как сказал бы Кароль Шимановский, приходилось пребывать в обществе таких хамов (титулованных). Некоторое время спустя пришел еще этот болван, ну, знаете, Менотти-Корви, и разговор начался по-настоящему.
Да, в нем было все: и «угасши воздыханья и роз пурпурных завистливо благоуханье» или как там в этом стихотворении. Впрочем, неважно: поменьше об этом — la plus petite avec ça — вроде как бы и неважно, а тем не менее дело как раз в том единственном в своем роде факте и великом законе, хотя неизвестно о чем, собственно, речь — ведь н е о т о м же, о чем говорилось в знаменитой и любимой фразе Надразила: «Роман, роман — на кой писать, что кто-то куда-то пошел и кого-то облапал» — роман может быть чем-то большим — «библией жизни» для всех «недоносков и недоучек» или времяпрепровождением остолопов. Литераторы превратились в банду шутов, и потому поделом им — пусть вымирает сучье племя. Отвращение, отвращение, горы отвращения. А все потому, что должен быть контакт с жизнью — не сидеть же безвыходно в спальном вагоне, окруженным славой и кучей восхищенных представителей так называемой элиты.