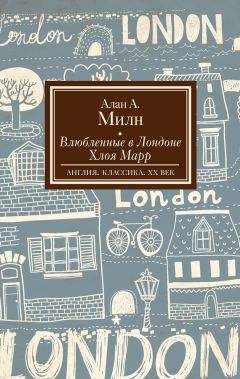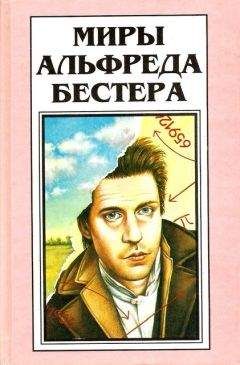– Она была счастлива ребенком. По ее словам, до тринадцати лет, а потом довольно быстро повзрослела. Что она хотела этим сказать, Эсси?
– Это опасный возраст, когда принимаешь собственную природу или сопротивляешься ей – возможно, до конца своей жизни.
– Ты думаешь, что-то тогда с ней случилось? Не появись Перси, я, возможно, услышал бы всю историю.
– Да, историю. Но необязательно правду.
– Ты думаешь, она бы мне солгала? – спросил пораженный и встревоженный пастор.
– У женщин собственный свод правил. В твои годы ты бы должен уже это знать, дорогой.
Пастор вздохнул:
– Приходится неохотно признать, что слабость вашего пола в том, что вы не умеете серьезно относиться к истине. Более того, в одном или двух случаях, особенно в случае миссис… в одном или двух случаях, как я говорил, я наблюдал столь явное неуважение к истине, что пришел в ужас.
– Тебе незачем было приходить в ужас, Альфред. Это естественно.
– Ты очень мудра, моя дорогая. Мне никогда не поздно у тебя учиться.
– Когда ты был в школе, разве не считалось дурным тоном жульничать в отношении других мальчиков, но хорошим тоном – жульничать в отношении учителя?
– Ну… – протянул пастор, несколько неохотно об этом задумавшись. – Про хороший тон не скажу, но это определенно не порицалось – разве только, естественно, самим учителем.
– И почему же? Ты когда-нибудь задумывался?
– Не уверен, моя дорогая, но подумаю сейчас. – Он немного помолчал, дергая себя за нижнюю губу. – Полагаю, дело в том, что, считая всех учителей своими естественными врагами, мальчик полагает, что они имеют перед ним огромное и несправедливое преимущество и что сам он вправе защищаться любыми доступными средствами.
– Тогда если женщины привыкли так относиться к своим будущим господам и повелителям, на чьей стороне веками были все преимущества, милосердно было бы поискать для них каких-нибудь оправданий.
– Мой долг, – оперев голову на руку, размышлял вслух пастор, – первым выступить в защиту строгой морали и в то же время первым подыскивать оправдание для всех, кто нарушает ее правила. Нет, я не жалуюсь, я просто говорю, что это представляется моим долгом. – Откинувшись на спинку скамьи, он погладил подбородок. – Мыслителю независимому показалось бы, что наоборот было бы проще: если бы я вообще перестал отстаивать мораль. Не знаю, куда нас это заведет.
Эсси не слушала.
– Хлоя была очень красивой женщиной, – сказала она. – Удовольствием было на нее смотреть, удовольствием было ее слушать и, поскольку с нами она была неизменно очаровательна, удовольствием было находиться в ее обществе. Нетрудно вообразить, что она была эгоистичной, как большинство молодых женщин, лживой, как большинство женщин любого возраста, и, возможно, беспринципнее многих. Насколько она сама была виновата в том, что несчастна, нам узнать не дано. И действительно, мы не знаем о ней ничего, помимо того, что видели и слышали.
– И любили, – мягко добавил пастор. – Ты плачешь, Эсси?
– Нет, – отозвалась Эсси, смахивая слезу. – Я не стану из-за нее плакать. Нарциссы отцвели, но они вернутся. Хлоя не вернется, и мир утратил толику своей красоты. Вот и все.
Пастор молчал, стараясь выудить что-то из недр памяти. Была одна несчастливая женщина, которую он некогда знал… нет, не Хлоя, но, как и Хлоя, женщина волшебной красоты… Мальчиком он часто задумывался о ней… она тоже умерла, и кто-то сказал про нее что-то, что разом подвело итог. Кто же она была? Она жила в этом мире или в мире, который зачастую кажется гораздо более реальным, в воображении писателя? Кто-то что-то сказал…
Вспоминается, вот-вот вспомнится…
– В чем дело, Альфред?
Да, вот оно! Вот он, конец истории. Тихонько он пробормотал себе под нос строки:
И только рыцарь Ланселот,
Подумав, молвил не спеша:
«Лицом, как ангел, хороша,
Да упокоится душа
Волшебницы Шалот!»[86]
Иврард Хейл и Китти Клейверинг ужинали в «Савойе» – сидели за столиком, за которым он так часто сидел с Хлоей. Час был ранний, поскольку Китти собиралась на чей-то праздник, и просторный зал пустовал. Пустота его обступала. Теперь она его не оставит.
– Очень любезно с вашей стороны было прийти по первому же звонку, Китти, – сказал он. – Я только что вернулся с похорон Хлои. Родни у нее как будто не было, поэтому ее похоронили там. Пошли бы ненужные разговоры, если бы я привез тело в Англию.
– То есть вы летали в Голландию?
– Да. Я старался связаться с вами на случай, если вы захотите поехать со мной, но вас не застал, да и времени не хватало. Я положил цветы на ее могилу за вас, подумал, вас бы это порадовало.
– Ох, Иврард, милый, спасибо, это было прекрасно.
– Мы с вами, возможно, не самые старые ее друзья, но, думается, самые близкие.
– Не заставляйте меня плакать, Иврард. Я больше плакать не хочу. Я стольких мужчин в свое время любила или думала, что люблю, но скорее бы провела день с Хлоей, чем с любым из них. Она – часть моей жизни, Иврард. Наверное, такое почувствуешь, имея сестру-близняшку. Я всегда приберегала истории, чтобы ей рассказать. О, дорогой, как же мы смеялись, а для женщины это много значит. Теперь звучит глупо и пусто. И… мне только что пришло в голову… Что скажут близнецы, когда узнают? Наверное, мне придется рассказать им какую-то ужасно неправдоподобную байку из тех, которые им якобы на пользу. Иврард, милый, я трещу, только чтобы не плакать.
– Нам пойдет на пользу, если мы сперва выпьем и поедим, а потом я покажу вам письмо, которое заставит вас улыбнуться, но мне хочется, чтобы оно вам понравилось.
– От кого?
– От Уилла.
– Ну надо же!
– Подождите, сами увидите. – Он поднял бокал, и они выпили, не чокаясь. Выпив еще, он сказал с улыбкой: – Думаю, в целом спиртное – хорошее изобретение человечества.
– Даже не знаю, что бы я без него делала! – отозвалась Китти.
– Еще одно удачное изобретение, – сказал он, когда принесли кофе, давая прикурить ей и сам раскуривая сигару.
– Чего я не пойму про мир иной, – сказала Китти, – это как мы там будем обходиться без еды и напитков. И многого другого, – добавила она задумчиво.
Едва она это произнесла, как сказала себе, мол, ты просто дуреха, потому что Хлоя теперь в том ином мире, и как раз такое способна сказать дуреха вроде нее. Но Иврард кивнул и откликнулся самым естественным тоном:
– У меня есть на этот счет кое-какие мысли. Возможно, поделюсь, если захотите послушать. Но давайте сперва посмотрим на письмо Уилла.
Иврард был самым галантным, самым отзывчивым, самым внимательным человеком, которого знала Китти. «Наверное, я все ж не такая дуреха, если ему нравлюсь», – подумала она.
«Гранд-отель
Мидлсвик
Полночь
Мой дорогой Иврард!
Шокирующее известие о смерти бедной Хлои дошло до меня, как раз когда я собирался сегодня вечером выйти на сцену. Можете себе представить, какой для меня это был удар. По счастью, я – актер бывалый, даже более бывалый, чем хочется думать, и девиз «Шоу должно продолжаться» укоренился во мне до мозга костей. Думаю, могу сказать, что зрители не догадались о подспудных течениях моей игры и действительно выказали нам более обычного пылкий прием, ни много ни мало восемь раз вызывая нас после занавеса.
Бедная, милая, очаровательная, восхитительная Хлоя! Мы с вами, Иврард, друзья много лет, и я могу говорить с вами о вещах, которые не рискнул бы обсуждать с другими. Временами до моего сведения доходило, что имя мисс Марр связывали и до сих пор связывают с моим в праздных разговорах, от которых в целом не огражден человек публичный. Мне бы хотелось настоятельно подчеркнуть, что в распространяемых историях никогда не было ни слова правды. Мисс Марр никогда не была мне никем иным, нежели близким другом. Не мог и супруг столь преданной помощницы, как много оплакиваемая Хелен Брайтмен, желать иного. Более того, я твердо держусь мнения, что стань правда известна, отношения дорогой Хлои с другими ее друзьями имели сходный характер, а Любовь, которая так настойчиво перебирает душевные струны многих из нас, давно перестала касаться ее. Фантастичным ли будет вообразить, что некогда она знала любовь и утрату, и когда ее бедное сердце было разбито, принесла обет целомудрия?
Но я пишу вам, дорогой Иврард, не столько для того, чтобы выставлять напоказ собственное горе, сколько чтобы выразить глубокое сочувствие вашему. Ибо я чувствую, что вы были самым истинным ее другом, понимали ее полнее других, любили вернее и ее уход принес вам тем больше боли. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю: у нас, артистов, свои способы читать в сердцах людей. Нет отношений более тесных, более дорогих, более прочных, нежели отношения отца и дочери, и именно любимую и любящую дочь, «столь же истинно мою, точно она моя по крови», вы будете оплакивать. Пусть вам послужит утешением мысль, что старый друг вас обоих понимает и разделяет вашу печаль.